— Ничего, это как кататься на велосипеде, — повеселев, уверил меня Макс. — Я не забыл твой первый шов. Ты прирожденная портниха.
Нет, не мог Макс помнить, как я впервые взялась за швейную иголку. Его при этом не было.
Целых три года — с семи до десяти лет — на каждый праздник я наряжалась в одно и то же платье. Другого не было. И не потому, что мы были нищими, нет. Хотя и богатыми нас тоже не назовешь. А потому, что Бев предпочитала тратить деньги только на то, что могла съесть. Или выпить. Но даже предложи она мне прошвырнуться по магазинам, я бы не согласилась. Пошатываясь, спотыкаясь, она будет брести вдоль прилавков — и я рядом с ней? И все вокруг будут пялиться на нас? Лучше умереть.
Хорошо хоть платье было милое. Синее, под цвет глаз, с заниженной талией и с пуговками из искусственного перламутра, которые изящной линией спускались по всему лифу — от кружевного воротничка до пояса юбки. В день Пасхи я в который раз достала свой праздничный наряд и с сомнением оглядела свое отражение: меня смутило не платье, а то, как оно обтянуло мне плечи и оголило коленки, вместо того чтобы, как положено, спуститься до середины голени. В свои десять лет я не была модницей, но догадаться, что прилично, а что нет, слава богу, могла. И я поняла, что выгляжу неприлично.
Бев по-всякому меня обзывала: и кривозубой, и тупицей. Обиднее всего было, когда она ругала меня уродкой. Но, разглядывая себя в куцем, старомодном платье, я убедилась: мама права — я уродка.
Я давным-давно усвоила: слезами горю не поможешь (мне, во всяком случае, они никогда не помогали), однако глазам все равно стало горячо от набежавшей влаги. Я бы, не задумываясь, махнула рукой на синее платье и надела какие-нибудь брюки и футболку, но мы с папой собирались в церковь, а он очень строго относился к некоторым вещам. К пасхальному наряду, например.
Я вытерла глаза. Чихать я хотела на то, что обо мне подумают! Чихать на то, что все знают: моя мать — пьяница. Что дразнят «сироткой Анни». Куда как просто потешаться над рыжей девчонкой в поношенной одежде. Но я им не доставлю удовольствия — ни одна живая душа не узнает, как мне горько и обидно. Я глубоко вздохнула и хорошенько потянула за платье — может, станет чуть посвободнее? Тр-р-р! Полетели во все стороны перламутровые пуговки.
Когда пришел папа — поторопить меня, — я ползала по полу, вытаскивая пуговки из темных щелей, из-под кровати.
— Что это ты делаешь? — спросил папа, прислонившись к дверному косяку. Широкие плечи загораживали почти весь дверной проем. Он был еще без пиджака, под тканью сорочки вырисовывались выпуклые мускулы рук.
— Ничего, — пробормотала я, еле сдерживая слезы.
— Нам пора в церковь, Рэйч. Прекрати возиться. Не то опоздаем.
— Без тебя знаю! — огрызнулась я с пола, одной рукой придерживая платье, которое разъезжалось в стороны там, где отскочили пуговицы. В прореху выглядывала хлопковая майка.
— Да что случилось-то? — Папа не то удивленно, не то сердито нахмурился и шагнул в комнату.
— Я порвала платье, — буркнула я себе под нос. — Придется в брюках идти.
Папа грозно навис надо мной, заслонив свет от люстры.
— Как это — порвала платье?
Я протянула руку с горстью пуговиц, он ухватился за эту руку и рывком поставил меня на ноги. Как будто я совсем ничего не весила.
— Пуговицы отскочили, — пояснила я. — Платье слишком узкое.
— Чепуха. — Папа поднял за подбородок мою голову, чтобы я смотрела на него. Если он и заметил слезы у меня в глазах, то промолчал. — Это платье тебе в самый раз. Нам просто надо снова пришить пуговицы.
— Ну, пап! Можно я надену брюки?
— Это в Пасху? Никак нельзя, Рэйчел. Даже мама пойдет сегодня в церковь. Я хочу, чтобы мы все надели все самое лучшее. Может, мы даже сфотографируемся все вместе.
Я застонала:
— Ну пожалуйста! Ну можно я…
— Нет. — Папин тон не допускал никаких возражений. — Наденешь платье.
Я послушно стянула изувеченное платье и накинула купальный халат, который дал папа. А потом он потащил меня разыскивать швейный набор. Мы оба прекрасно знали, что Бев понятия не имеет, как с этим обращаться, поэтому, когда маленький сверточек отыскался наконец в глубине аптечки, папа вдел нитку в иголку и сунул мне.
— Я не умею пришивать пуговицы, — сказала я, с опаской поглядывая на кусочек стали.
Папа на мгновение опешил:
— Не умеешь?
— Нет.
— Думаю, это не сложно. — Папа глянул на часы, потом многозначительно посмотрел на меня. — Мы выходим через десять минут. Мама уже заканчивает краситься.
Бев могла битый час «заканчивать краситься», но папа стоял и нетерпеливо постукивал ногой, будто напоминая, что время идет. Делать было нечего. Я покрепче ухватила платье и воткнула иголку в то место, где торчал обрывок белой нитки от первой пуговицы. Это оказалось нелегко, но я просунула иголку в дырочку с обратной стороны малюсенькой пуговицы и снова воткнула ее в ткань. Проделала эту операцию четыре раза, а на пятый промахнулась и уколола кончик указательного пальца. Было не очень больно, но я разревелась.
— Ну, пап, — упрашивала я, всхлипывая. — Разреши мне надеть брюки!
Он забрал у меня платье и хотел осмотреть мой раненый палец, но я сунула его в рот и показывать отказалась.
— Синий цвет подходит к твоим глазам, — рассеянно проговорил он, поглаживая платье. А потом взял болтающуюся на длинной нитке иголку и принялся сам пришивать пуговицу.
Я сквозь слезы смотрела, как он одну за другой пришивает пуговицы к платью, которое было мне мало на два размера. Пальцы у папы были толстые и неуклюжие, мозолистые, раз или два он чертыхнулся про себя, но с делом справился. Когда он вручил мне ненавистное синее платье, оно было все измято, а местами заляпано пятнами пота. Как старая тряпка. Но хуже всего было то, что некогда аккуратный рядок хорошеньких пуговиц теперь весь перекосился. Одни пуговицы болтались, другие оказались пришиты слишком крепко.
Папа ничего этого не замечал. И даже не догадывался, что из его кропотливого труда ровным счетом ничего не вышло.
— Пойду схожу за мамой, — сказал он. — И если ты быстренько оденешься, никто и не заметит, что мы припоздали.
Я надела платье. Но, просовывая в петлю каждую кривую пуговицу, думала о том, что папа меня не понимает. И даже не старается. И это было гораздо обиднее, чем злые насмешки девчонок, шушукавшихся по поводу моего платья.
Глава 3
Митч
24 декабря, 8 часов утра
Столовая пансионата ярко освещена и полна народу. Но, несмотря на столпотворение, здесь необыкновенно тихо. Мужчины и женщины преклонного возраста, группами сидящие за разнокалиберными столиками, о чем-то шепчутся, словно с годами утратили потребность в громких звуках. Посередине каждого стола — горшок с красной пуансеттией; дымкой окутывает все рождественская мелодия. Лучше всего витающий в воздухе запах растопленного масла и теплого сиропа. Блины, что ли? — гадает Митч. Он блины любит.
Место ничего, славное, но Митч нерешительно топчется в дверях, озираясь по сторонам. Столы расставлены так, чтобы оставался проход для кресел-каталок и ходунков. Сам-то он, слава богу, пока еще на своих двоих. Но куда идти-то? Табличек с именами на столах вроде нет, и знакомых лиц не видать. Митч изо всех сил старается не поддаваться нахлынувшему ощущению одиночества. А так хочется вернуться назад, в ту странную комнату, которая теперь вдруг кажется родным домом. Он уже собирается сказать сиделке, что ему что-то расхотелось завтракать, когда замечает на другом конце зала мужчину.
Высокий, подтянутый, можно сказать, элегантный. А держится-то как — спокойно, уверенно, будто и не отсюда он, не из стариковского интерната. Митч видит, как невозмутимый господин аккуратно опускается на один из четырех стульев у пустого стола, узкой рукой тянется за льняной салфеткой и одним изящным взмахом разворачивает ее. Ткань легко ложится ему на колени, старик глядит на нее, словно читает начертанные на крахмальных складках тайны Вселенной. Прикрывает глаза. Вздыхает.
— Я хочу сесть там, — объявляет Митч, показывая на старика.
— Но это не ваш столик, — щебечет сиделка и придерживает его за локоть. Митч вырывает руку и недовольно фыркает. — Ну, как хотите, мистер Кларк, — со вздохом уступает она.
Ишь, улыбается. Хоть бы покраснела, так нет, весело ей! Ничего, он их еще научит уважать стариков.
— Я и без вас сяду, — бурчит Митч и, не оглянувшись, отходит от молодой женщины. И пересекает столовую с видом, как ему представляется, презрительного достоинства.
Когда Митч оказывается возле небольшого круглого столика, незнакомый господин по-прежнему сидит, опустив голову.
— Здесь свободно? — спрашивает Митч, положив руку на спинку стула напротив незнакомца.
— Мы сегодня друзья, Митч? — Старик поднимает голову и с мягкой полуулыбкой пристально вглядывается в лицо Митча.
— Простите? — Митч безуспешно силится припомнить эти синие глаза, решительный подбородок. — Мы знакомы?
Старик качает головой, прячет улыбку.
— Я видел вас здесь, — расплывчато отвечает он. — Меня зовут Купер.
— Очень приятно, — кивает Митч. А ведь они где-то встречались. Или нет? — Не возражаете, если я к вам присоединюсь?
— Конечно, нет.
Митч усаживается, оба молчат. Он кладет на колени салфетку, пытаясь повторить эффектный жест Купера. Но руки у Митча такие неуклюжие, не руки, а колоды. Салфетка ложится комом. Да бог с ней. Митч тянется к приборам возле тарелки. Мать честная! Четыре разные штуковины непонятного предназначения. Напряженно соображая, Митч разглядывает сверкающее серебро. Нет, хоть убейте, он не представляет, для чего все это.
— Ложка вам сейчас не понадобится, — любезно подсказывает Купер и поднимает штуковину с небольшим углублением. — Если, конечно, вы не собираетесь размять свои блины в пюре. — Он подается вперед, внимательно приглядывается: — Да нет, зубы у вас, похоже, на месте.
И как прикажете относиться к подобному подтруниванию? Бог его знает. Однако ложку Митч отодвигает подальше.
— Интересно, зачем это нам дали по две вилки. Не подадут же нам на завтрак салат? — Купер берет ту вилку, что поменьше, и тоже откладывает в сторону. — Вот так. Все, что нам понадобится, — это вилка и нож.
Вилка. Нож. Теперь Митч вспомнил. По штуке в каждую руку. А пользоваться ими он еще умеет?
— Сегодня у нас блинчики, — сообщает Купер. — А тесто они замешивают сами, на пахте. Добрая рождественская традиция.
— Сегодня Рождество?
— Не сегодня. Завтра. Но в сочельнике есть нечто особенное, не правда ли? Предвкушение, надежда на будущее.
Митч, вообще-то, не знает, что такого особенного в сочельнике. И понятия не имеет, что он должен предвкушать, если, по словам Купера, главное в празднике — предвкушение. И все же что-то шевельнулось в душе, Митчу вдруг ужасно захотелось… Захотелось страстно, отчаянно, но — чего? Нет, не вспомнить. Словно так долго ждет, что уже и позабыл, чего, собственно, дожидается.
В животе у Митча урчит. Наверное, он голоден. Наверное, это он блинов ждет.
— Моя жена работала в придорожном кафе, — сообщает Митч и сам удивляется неожиданному воспоминанию. — Она пекла совершенно потрясающие блины на пахте.
— Я их помню, — с улыбкой кивает Купер. — В те времена мы не моргнув глазом изводили на стопку оладий целую пачку масла. Настоящего масла! А не этого поддельного маргарина.
Митч так и видит золотые кусочки чистого сливочного масла. Как они плавятся, точь-в-точь маленькие шарики мороженого, оставляя теплую дорожку на блинах с хрустящими краешками. Митч улыбается:
— Красота!
— Мне еще не доводилось слышать, чтобы кто-то говорил про блины «красота», ну да ладно. — Купер пожимает плечами.
— Да не блины! — Митч смеется хрипло, будто кашляет, зато от души. — Женщина. Она была красивой.
Купер кивает, но взгляд колючий.
— Да, она была хорошенькой.
— Вы знаете мою жену?
— Знал, — мягко уточняет Купер. — Она скончалась много лет назад, Митч.
Митч мнет вспотевшими ладонями ткань своих брюк. Конечно, он это знает. Знает, что ее нет. Но на мгновение она встает у него перед глазами. Стройные бедра под белым фартуком, глаза, сверкающие огнем и льдом. И за словом она в карман не лезла. Митча охватывает неясное беспокойство, легкое чувство стыда. Из-за этого чувства он одновременно любит и ненавидит женщину, прошедшую по самому краешку его разбитой памяти.
Кажется, он сейчас заплачет. Только этого не хватало! Что-то подсказывает ему, что мужчины не плачут. И он не должен плакать. Мозоли на ладонях, шрамы на плечах — разве не доказательства, что он настоящий мужчина… был настоящим мужчиной. Мужчиной, который презирал хлюпиков. Митч быстро моргает, шмыгает носом.

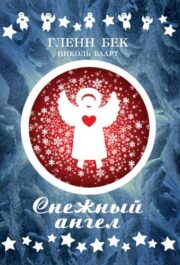
"Снежный ангел" отзывы
Отзывы читателей о книге "Снежный ангел". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Снежный ангел" друзьям в соцсетях.