Настя инстинктивно положила руку на живот.
„Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия — удалявшаяся на покой проститутка — клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целых две страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени. Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо — превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть ли не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая, самая неожиданная развязка — столь поразительной“.
„Как только Ростислав проснется, я должна поговорить с ним. Я скажу ему все — и о ребенке тоже… Бедное мое дитя, в какой мир ты хочешь войти?..“
Тихо тикали часы на руке. Гера скреблась о ножку стула — чесала когти. А Джулия оригинальным образом уничтожала соперницу. И вряд ли можно было придумать более эффектное убийство!
„Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она появилась на премьере во втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линялой тряпкой. Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то — как фокусник вынимает из шляпы кролика — большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как завороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случаен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение: она поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются так жестоко. Весь эпизод продолжался не более минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда“.
„Ну вот, моя радость и просыпается… Какой он трогательный! Маленький заспанный крысенок“. — Насте непреодолимо захотелось чмокнуть Ростислава в умный, как он считает, лоб.
Что она и сделала, окончательно его разбудив.
— Катя, — пролепетал он со сна.
— Какая еще Катя? — целовать еще раз явно расхотелось.
— Ой, Настя… Это я так, снилось что-то.
Настраиваясь на серьезный разговор, она решила не завязывать банального скандала, который, как показывал опыт, помогает лишь „выпустить пары“, но никогда не решает ни одной проблемы.
— Тебе нехорошо? — она заметила, что он бледен.
— Принеси мне воды, если можешь… Пожалуйста.
Настя пошла на кухню с маленьким кувшином, по дороге вспоминая царскосельскую деву, воспетую Пушкиным.
Огромная кастрюля, исходя из степени закопченности — монгольская, то есть принадлежащая монголам, кипела, распространяя запах разварившегося мяса. Насте сразу же стало дурно, и целый кувшинчик ледяной воды попал к ней в желудок.
Вторую порцию она доставила в комнату.
— Пожалуйста…
Ростислав залпом опорожнил посудину.
— Жаль, что вечер, а то я бы попросил тебя за пивом сходить.
— Еще чего! — не выдержала она.
— А почему бы и нет? Говорят, жена Гурия Удальцова по утрам ходит за пивом для всей мужниной компании.
— Это потому, наверное, что она жена.
— Нет, это потому, что она не то узбечка, не то киргизка. Из восточных женщин, в общем. Они покорные — как Зульфия.
— Много ты знаешь про Зульфию. Не поверишь, но покорные восточные страдают и переживают муки ревности так же тяжело, как и не восточные.
— А мне Улугбек говорил… — Он сделал паузу, словно жалел, что проболтался.
— Что говорил?
— Что… когда вернется в Ташкент, возьмет себе еще и третью жену. Только Зульфие просил не растрепать.
— Все вы…
— Что все мы? „Мой милый, что тебе я сделала?“, — как одна из вас писала?
— Ростислав, у нас будет ребенок.
Он не реагировал, очевидно, не мог вникнуть в смысл ее слов.
— Слышишь, я жду ребенка.
— Что? А кто отец?
Теперь не могла вникнуть в смысл происходящего Настя.
— А ты сам не догадываешься, кто отец?
— Этого не может быть. Ты же все подсчитывала!
— Слава, ты же знаешь, что никогда не может быть стопроцентной уверенности.
Он молчал, уставившись в потолок.
Гера прыгнула к Насте на колени, и в сумерках по ее шерсти проскакивали искры. С кошкой она чувствовала себя вдвое сильнее.
— Ты же поэтесса, — наконец сдавленным голосом произнес он, — зачем тебе ребенок? Твое дело писать стихи.
— Я женщина, Слава.
— Ты завтра же сходишь к врачу, ладно? И все решишь.
— Я уже была у врача и все решила, — произнесла Настя с гораздо большей степенью твердости, чем это было свойственно ей на самом деле.
Немая сцена длилась несколько минут.
— Я тебя больше не люблю, — нарушив немоту, медленно произнес Ростислав. — Я не отдам тебе свою душу. Никогда не отдам. Я от ребенка не отрекаюсь. Может быть, я и отец… Но тебя, такую коварную, я знать больше не желаю.
— Подожди, пока нас Бог разделит, а потом уже будешь решать, от кого отрекаться.
Она встала с кресла и начала собирать вещи.
— Нет! — остановил ее Ростислав. — Я же не подлец! Я не могу выгнать беременную женщину на ночь глядя. Сам уйду!
И он ушел.
Настя даже не посмотрела, сел ли он в лифт или исчез в злополучной „Сибири“.
Смертельно уставшая, она опустилась на диван, еще хранящий приятное тепло чужого тела и, спрятавшись лицом в подушку, предалась плачу.
Со слезами боль ушла и наступило желанное безразличие. Она провалилась в бездну сна.
Мама в белом платье брела по краю огромного зеленого поля, заросшего душицей и ромашкой. Над нею вились бабочки и стрекозы, но она не обращала на насекомых никакого внимания.
Она шла по краю поля, словно боялась ступить в сторону и утонуть в растительном буйстве.
Настя видела ее очень отчетливо, хотя находилась на другом конце поля — тоже у края. Она хотела напрямик пройти сквозь зелень, но какие-то силы удерживали ее.
Они стояли лицом друг к другу, и Настя заметила, что маме столько же лет, сколько ей сейчас, — они ровесницы, почти сестры-близнецы.
Вдруг травы расступились, обнажая две полоски земли, две узкие, как порезы, тропинки. И она поняла, что каждой из них предназначен свой путь и что обе они видят оба пути сразу. Она видит путь мамы — от того возраста, с которого осознанно помнит ее и до последнего шага. А та видит путь дочери — отныне и вовеки веков. Наверное, из тех миров многое становится понятным в мире нашем.
Мама подняла вверх руки, и два пути соединились в один.
Сон оборвался.
В дверь постучали.
— Настя-ханум, открой дверь! — сквозь всхлипы слышался голос Зульфии.
— Сейчас!
Она вбегает в комнату, беременная, круглая, как арбуз, простоволосая, заплаканная. Покорная женщина Востока.
— Настя-ханум, я выброшусь из твоего окна!
— Присядь! Что случилось? Что же?
— Не трогай меня, не держи! Улугбек меня бил за то, что я смотрела телевизор с другими мужчинами.
— Тебя — бил?!
— Пусти меня!
— Но почему, почему ты хочешь выброситься именно из моего окна?
— Здесь пейзаж получше…
— Что?! Зульфия, ты в своем уме?
Она тяжело опустилась в кресло.
— О, Аллах…
И они обе заплакали, как на похоронах. Две женщины, две беременные бабы, две поэтессы.
В Москве было двадцать градусов ниже нуля, и Настя, выскочив из метро, как можно скорей стремилась добраться до института. На Тверской не было видно даже голубей. Наверное, спрятались от холода. Но толпа у дверей „Макдональдса“ стояла. Люди — не птицы. Они ждали открытия заведения, где им дадут красиво упакованный кусочек американской мечты.
Времени у Насти было мало: нужно еще успеть взять интервью у одной феминистки. А после обеда — вообще уйма дел. Она вспомнила совет кого-то из мудрых: нужно непрерывно быть в делах, чтобы не думать о невзгодах жизни. В ее случае — личной.
Итак, для начала, лекция из спецкурса по творчеству А.С. Пушкина.
„В послереволюционной русской поэзии мы наблюдаем гибельное число бесполых стихов, — утверждал доцент. — Иногда, если под ними нет имени автора, не знаешь даже, кто их написал — мужчина или женщина? Стихи на эротическую тему, если грубы — пошлость, если изящны и остроумны — прелесть. Вспомните пушкинские строки:
Она тогда ко мне придет,
Когда весь мир угомонится,
Когда все доброе ложится,
А все недоброе — встает.
А сколько у него таких прекрасных строк, свободных от предрассудков, полных жизненно веселого обаяния, в которых проходил он, как по лезвию ножа.
Первый издатель пушкинской „Гаврилиады“ Николай Огарев писал, что „язык и форма“ этой поэмы „безукоризненно изящны“. „Для нас, — отмечал он, — очень важна эта сторона изящества неприличных стихотворений Пушкина; мы слишком неизбежно видим, как отсутствием изящества форм в жизни, на долю стихотворений неприличного содержания, остается только неприличность и устраняется все изящество…“ И добавлял: „Пушкин довел стихотворение эротического содержания до высокой художественности, где уже ни одна грубая черта не высказывается угловато и все облечено в поэтическую прозрачность“.
Вот послушайте:
И что же? вдруг мохнатый, белокрылый
В ее окно влетает голубь милый,
Над нею он порхает и кружит,
И пробует веселые напевы,
И вдруг летит в колени милой девы,
Над розою садится и дрожит,
Клюет ее, копошится, вертится,
И носиком, и ножками трудится.
Он, точно он! — Мария поняла,
Что в голубе другого угощала.
Колени сжав, еврейка закричала,
Вздыхать, дрожать, молиться начала,
Заплакала, но голубь торжествует,
В жару любви трепещет и воркует,
И падает, объятый легким сном,
Приосеня цветок любви крылом“.
Настя слушала лекцию и с ужасом понимала, что за „Гаврилиаду“ готова возненавидеть Александра Сергеевича, посягнувшего на святая святых — непорочность Девы Марии, плод чрева которой благословен.
— Настя?
В дубленке и зимней шапке он казался огромным и… очень взрослым, даже старым, этот Гурий Удальцов, великий поэт, жена которого ходит за пивом для всей опохмелочной компании.
— Добрый день, — ответила Настя.
— Может, сходим, выпьем кофе в Цэдээле?
— Я бы с радостью, но очень спешу в редакцию.
Она улыбалась так искренне, что он поверил.
— Тогда до послезавтра!
— Пока…
Она никуда не спешила.
Ей некуда больше спешить.
Снова она брела, куда глаза глядят, а поскольку глаза глядят в землю, привычно набредала на метро.

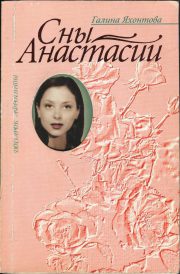
"Сны Анастасии" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сны Анастасии". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сны Анастасии" друзьям в соцсетях.