В институте лекции по античной литературе низким величественным голосом читала невозмутимая и божественная „старица“ Аза Алибековна Тахо-Годи. Вдова академика Лосева и, по преданию, одна из возлюбленных Сергея Есенина, она и в преклонном возрасте казалась прекрасной. Насте пришло в голову, что ее увлечение античностью могло возникнуть именно из ревности к Айседоре, облаченной в пеплос. Всеми поступками женщины движут чувства. И замечательные женщины — не исключение из этого правила.
Листая энциклопедию, она и узнала, что в 1968 году Ив Сен-Лоран изобрел потрясающее платье из прозрачного черного шифона и страусовых перьев, ставшее „первой ласточкой“ новой волны так называемой „обнаженной моды“: длинное, до пола, присобранное у невидимой из-за страусовых перьев талии. На фотографии обнаженная европейская манекенщица, оттененная черным шифоном, казалась негритянкой и не производила впечатления одетой. Как в народной сказке про умную девушку: „Я хочу, чтобы ты в мой дом не пришла — не приехала, не голая — не одетая, не с подарком, не без оного…“
Портреты, портреты… На каждой странице толстого тома — женские лица. А вот и любезная сердцу Анастасии Япония, о которой она написала славненькую, но не слишком эротическую сказку. Гравюра Кабиями Коккеи: обнаженной госпоже служанка расчесывает великолепные волосы. Пряди струятся по царственному женскому телу. Гравюра как бы предваряла все этикетки и рекламные ролики наступающего XX века, говоря: женское тело — это красиво, это предмет роскоши. Настя подумала, что эта французская манекенщица, наверное, иногда превращается в черного страуса…
Сон овладел ею мгновенно и унес в иные пространства.
Она оказалась в каком-то городе, построенном на манер Диснейленда. Пагоды, мечети с минаретами, церкви с колокольнями, острые шпили готических соборов… Безлюдный город всех времен и народов, покинутый жителями и богами.
Она шла в потоках мертвенного света, едва касаясь ступнями земли. Да и земля под ногами была не твердая, а напоминающая отяжелевшие перед грозой тучи, словно налитые ртутью.
Путь ее лежал к готическому собору, слегка похожему на единственный, кажется, московский костел Святого Людовика, но намного более массивному и величественному. Она прикоснулась руками к воротам, и ладони прошли сквозь прутья, перекрещиваясь с ними. Испугавшись, она бросилась на запертую решетку, но та не оказывает ни малейшего сопротивления твоему телу, и ты видишь, что все пространство — от высокой каменной изгороди до стен собора — занимает кладбище.
Нескончаемые ряды могил были похожи на своеобразный недостроенный город, где возведены только фундаменты, уложены лишь краеугольные камни.
Настя пыталась различить имена на мраморных и гранитных плитах, но надписи на гробовых камнях были бессмысленны и запутаны, словно имена не единожды кто-то пытался переписать, переиначить.
Она медленно шла к храму и видела, что весь он — от земли до неба — тоже возведен из гробовых камней. Он — вселенная, построенная мертвыми, в которой живые ничего не могут изменить. Разве что пройти сквозь стену. Настя так и сделала.
Приблизившись к алтарю, она услышала звуки органа. Они рождались где-то под стрельчатыми сводами и, многократно преломляясь, достигали, наконец, земли. Но вскоре она поняла, что это вовсе не звуки органа, а шум крыльев бесчисленных белых голубей. Они летали под сводами и переливали воздух из боковых нефов в главный и обратно.
Словно по мановению чьей-то невидимой руки, птицы исчезли. Теперь слышны были только шаги, уверенные и быстрые.
Из потока света, окрашенного в разные цвета витражом, появилась высокая фигура в черной сутане. Священник приближался, и Настя с удивлением узнала его черты: это был Ростислав.
Его губы плотно сжимались, глаза были широко раскрыты. Он взял ее за руку, и она попыталась о чем-то у него спросить, но чувствовала, что губы ее плотно сомкнуты, будто запечатаны обетом молчания.
Ростислав повел ее к двери, они повернулись спиной к алтарю. Настя с удивлением обнаружила, что теперь и ее шаги зазвучали, стали слышными. И двери заскрипели, тяжело поворачиваясь на проржавелых петлях. И трава у подножия храма заволновалась, зашелестела под ветром, вдруг невесть откуда прилетевшим в этот затерянный мир.
Они ступили на траву, но Анастасия не смотрела под ноги и не запоминала пути, ощущая себя ведомой, во всем подвластной поводырю. Но когда они остановились, она инстинктивно огляделась вокруг. И увидела перед собой скромный памятник из мраморной крошки, такое же надгробие с чахлыми маргаритками и ноготками. Надпись на памятнике так же, как и на остальных, невозможно было прочесть. Но вот портрет и надпись: Мария Зубровская. На медальоне мать была запечатлена молодой и красивой, наверное, Настиных лет. Она лучезарно улыбалась и, казалось, даже подмигивала.
Но вдруг пейзаж изменился. Исчезло все — костел, кладбище, портрет. Настя и Ростислав стояли посреди бесконечного, заросшего травой поля в облачении Адама и Евы.
Вдруг он бросился на нее, повалил наземь, стал яростно покрывать поцелуями ее лицо, тело.
Но она испытывала ужас, потому что отчетливо понимала: они лежат именно на том месте, где еще несколько мгновений назад была мамина могила. Она чувствовала, что они предаются любви на могиле. На могиле ее матери.
Однако, несмотря на ужас, Настя всецело отдавалась во власть страсти и чувствовала невообразимое наслаждение. Мир исчез, переливаясь в иные пространства, развеиваясь в космосе. Ее душа испытывала освобождение, сравнимое, наверное, с последним, когда ей уже не суждено будет вернуться в тело. Едва пережив момент оргазма, Настя проснулась.
Темно. Страшно. Холодно. За открытой балконной дверью вспыхивала молния. Вот-вот обрушится гром небесный.
До рассвета она слушала ливень, и в его шуме ей мерещились сильные и властные шаги.
Совокупление на могиле матери казалось Насте чудовищным и, стремясь разобраться в собственном обезумевшем подсознании, она позвонила Игорю, экстрасенсу, своему однокласснику.
Он не практиковал, не продавал своих возможностей за деньги, ведя тихую жизнь аспиранта-первогодка. Но она знала, что этот человек способен помочь, однако взяв за это одному ему известную плату.
Игорь „работал“ исключительно в порыве вдохновения и только с особами женского пола. Во время бесед он впадал в своеобразные трансы и мог часами рассказывать об энергиях, силах и духах, движущих миром. Но нужно быть с ним „одной крови“, уметь его слушать, чтобы расслышать потаенный смысл того, о чем он говорит. Анастасия научилась понимать еще далеко не все.
К телефону долго никто не подходил, и она уже собралась было положить трубку, но вспомнила, что Игорь по утрам почти всегда бывает дома.
— Алло.
— Это я, Игорек. Я тебя не разбудила?
— Немножечко… Я лег в пять утра.
— А я в пять проснулась… Мне снился ужасный кошмар. У-жас-ный! Можно я к тебе приеду?
— Сейчас? Пожалуй можно, маленькая.
— Минут через пятнадцать выхожу. Через час буду у тебя.
Настя оделась и навела макияж со скоростью вымуштрованного военнослужащего срочной службы.
Игорь жил недалеко — в Сокольниках, и она добралась до его дома минут на десять раньше графика. В квартиру вела двойная дверь, и когда Настя нажала на кнопку звонка, то не услышала ни звука.
Забренчали цепочки, защелкали „собачки“. На пороге стоял хозяин, слегка усталый, но чисто выбритый и пахнущий хорошим дезодорантом. Он окинул гостью тяжелым взглядом. Такой взгляд Анастасия встречала редко даже у самых неординарных личностей. Лишь однажды она увидела в глазах человека нечто похожее, но тот человек тоже обладал экстрасенсорными способностями. Наверное, людей, подобных Игорю, можно узнавать в толпе именно по взгляду.
— Проходи, Настя. — Он провел ее в дальнюю комнату, сверху донизу заставленную книгами. Стеллажи и полки занимали абсолютно все пространство, так что вовсе не нужны были обои, даже над дверью была прибита узкая полочка для изданий небольшого формата.
— У тебя тут спокойно. — Она больше успокаивала себя, чем констатировала факт.
— Сядь-ка вот в это кресло. Отдохни.
Настя уселась в кресло, зажатое в угол, образованный книжными полками. Игорь, высокий и широкоплечий, склонился над ней и провел над ее головой руками, словно ощупывал какую-то невидимую поверхность.
— Закрой глаза, малышка… Так, хорошо… А теперь открой. Ну как? Лучше?
— Что — лучше?
— Посиди. Я сейчас приготовлю кофе.
Он скрылся за кухонной дверью, а Настя вдруг ощутила, что на душе и вправду стало лучше. Напряжение исчезло. Волна спокойствия тихо качала ее, утяжеляя руки и ноги. Она как-то внезапно ослабела, превратилась в капельку подтаявшего в теплой руке воска.
Игорь вернулся с маленьким мельхиоровым подносом, изысканным, но слегка несоразмерным его громоздкой фигуре. На подносе стояли две белые чашечки с золоченой внутренней поверхностью, армянская кофеварка из тяжелого медного сплава, над которой курился легкий пахучий дымок, а также хрустальная сахарница с серебряной ручкой и такими же щипчиками.
Горячий глоток вернул силы и вывел из оцепенения. Настя почувствовала себя так, словно заново родилась.
— Спасибо, Игорек.
Он не ответил: „Пожалуйста“. Хотя прекрасно понял, что она имела в виду. Но „благодарение“ не в правилах этих игр.
— А теперь рассказывай.
Он сел в кресло, стоявшее напротив, расслабился и прикрыл глаза. Анастасия знала, что в какое-то мгновение Игорь подключится к потоку, который будет исходить от нее, нащупает те „кадры“, которые оставили яркий след в ее подсознании и будет смотреть вполне объективное „кино“. Возможно, даже сможет увидеть ее сон.
Она подробно рассказала содержание этого сна: описала странный город, свет, лившийся с низких небес, готический костел, стеклянное сияние витража, священника в черной сутане, в котором узнала Ростислава, могилу матери, ее оживший портрет и то, как они, обнаженные, предались любви на этой вдруг преобразившейся могиле.
Игорь отрешенно слушал и не перебивал. Он выглядел погруженным в свои мысли.
Настя уже перестала говорить, а он все сидел, откинувшись на спинку кресла и полуприкрыв глаза. Казалось, он дремал…
Наконец, Игорь произнес:
— Почему ты до сих пор с ним не встретилась?
— С кем, Игорь? — удивилась она.
— С Ростиславом. Он уже недели две как в Москве. Ведь так?
Она в который раз поразилась его способности ясновидения.
— Наверное, так. Но что изменит эта встреча?
— Понимаешь, Настя, так называемая роковая любовь — это просто неправильная работа подсознания. Ты ходишь и все время думаешь об этом Ростиславе. А подсознание работает. И посылает тебе во сне фаллические символы в виде колоколен и минаретов.
— Я не совсем понимаю ход твоих рассуждений.
— Твои сновидения можно объяснить прежде всего комплексом Электры. Ты замечала, что женщины часто испытывают некоторую неприязнь к матерям, но при этом бывают всецело преданы отцам?
Настя вспомнила несколько подобных случаев, но все еще не могла сообразить, куда клонит Игорь.
— Да, замечала. Но при чем здесь Электра? И какое отношение ко всему этому имеет мой папаша? Ты же знаешь, что он оставил маму, когда мне едва исполнилось два года.
— Знаю. Но речь не о „папаше“, как ты изволила выразиться. Древнегреческая Электра, конечно же, руководствуется чувством долга к погибшему отцу. Но при этом подсознательно она из ревности ненавидит мать. Это — как два полюса. Понимаешь? Так вот, ты во сне вытесняла образ матери этой своей любовью на кладбище. Ты же продолжаешь ее обвинять за то давнее несчастье? И все так же считаешь, что если бы не случившееся тогда в темном подъезде, если бы этот парень был у тебя первым, то вы бы не расстались: ведь так, Настя?
Ошарашенная, она сопоставляла, словно кусочки детской мозаики, факты, выстроенные Игорем в своеобразную систему.
— Так. — Ее голос был тихим и слабым. — Но почему он явился в одежде католического священника?
— Потому что ты до сих пор не знаешь, женат он или нет, а так как именно католические священники дают обет безбрачия, твое подсознание выдало образ твоего возлюбленного, как принявшего целибат.
— Но, Игорь, почему же все происходило на могиле? Может быть, я столько нагрешила, что греховность проникла уже в самую суть моего существа?
— Я не люблю расхожих рассуждений о греховности и иже с ней. — Игорь достал пачку „Мальборо“. — Аскеза не решает проблемы сексуальной энергии, — продолжал он, изящно распаковывая пачку.
Они закурили. Табачный дым, воспаривший на смену кофейному, придавал беседе оттенок таинственности.

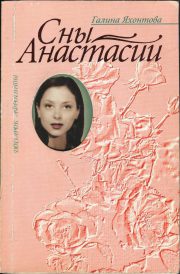
"Сны Анастасии" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сны Анастасии". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сны Анастасии" друзьям в соцсетях.