— Ты тут одежды из перьев нигде не заметил?
Ни груди она не прикрыла, ни пупка, ни прочих прелестей, вызывающих озноб. На какое-то мгновение он онемел. Потом помотал головой:
— Нет.
Он не смел даже разом оглядеть ее всю, некая странная сила отводила его взгляд от девушки. Но стоило ему оторваться от видения, как взгляд снова искал его. Так, почти украдкой, рыбак разглядел, что у девушки глаза переспелой вишни, легкие, как порыв ветра, волосы, а подмышки и низ живота покрыты темными волосками, нежными, как пух едва оперившегося вороненка.
И, словно озарение, явилась мысль, что никогда и ни за что не вернет он этой девушке ее оперение. Он уведет ее к себе в хижину. Не уговорами, так хитростью, даже обманом. В ней, только в ней его спасение. Со светом, который исходит от нее, ему не угрожает никакая тьма, ни в какую из лун года. С ней он избавится от тоски, от усталости, с ней он обретет цель.
Девушка подняла голову и посмотрела прямо в глаза Матиори. Странный это был взгляд. Мужчину со страшной силой потянуло к девушке, он готов был с рычанием наброситься на нее, подобно тому, как бурлящая вода грохочущим водопадом изливается со скалы. Однако что-то не менее сильное удерживало его. И Матиори изнемогал, раздираемый этими двумя порывами. С великим трудом он не поддался притяжению, исходившему от девушки. Сделал два глубоких вздоха, поднял валявшуюся на песке самую густую сеть, сплетенную когда-то из шелковых нитей его покойной матерью, и протянул девушке.
— Завернись. Отведу тебя домой.
— Куда? — спросила девушка.
— Я отведу тебя в мою хижину.
Они долго брели по берегу, пока, наконец, не подошли к бедному жилищу рыбака. Матиори плотно закрыл двери, как только девушка вошла. Страх, что девушка может улететь, если увидит парящих в небе чаек, пересилил его любовь к открытому пространству.
Девушка безмолвно опустилась на ковер. Так и застыла, скорчившись, жили только ее глаза, которые казались всевидящими.
И настала ночь. Девушка отдала себя рыбаку без колебаний. Сеть слетела с нее, словно оперение. За окном падали лепестки белых цветов.
Мохнатым шмелем
Жужжал над тобой
О, дивный мой лотос,
Восемь раз отразился коралл
В зеленой воде.
В предутренний час, когда хризантемы еще не раскрылись в саду, Матиори спросил девушку, как ее звать.
Подумав, она ответила:
— Скажи сам. Как назовешь — так и будет.
Множество имен пронеслось в уме рыбака: Акоги, Отикубо, Китапоката… Но ему хотелось дать девушке самое чистое имя. И он выбрал имя своей матери.
— Нисияма.
В глазах подруги явно отразилась тоска и беспокойство: Матиори даже испугался. Однако взгляд ее тотчас изменился, просветлел, стал кротким.
— Ладно, — согласилась она.
Так девушка-птица осталась жить у рыбака.
Но Нисияма все равно казалась ему временной, и он твердо решил навсегда удержать ее возле себя. Не отпускал Матиори страх, что она может упорхнуть, и потому он не забывал тщательно запирать дверь, особенно короткими летними ночами, когда воздух звенел от птичьего гама.
Нельзя сказать, чтобы Нисияма проявляла беспокойство. С виду она казалась вполне довольной жизнью. О прошлом не заговаривала никогда. Может быть, она обо всем забыла? Поверить в это было трудно, но так же трудно верилось Матиори теперь и во всю эту „птичью“ историю. Чем больше проходило времени, тем менее реальной казалась рыбаку та давняя встреча, превращаясь в красивую сказку, может быть, слышанную им в детстве от матери.
Быстро потекли годы. Вместе с женой в дом пришли успех и достаток.
Нисияма родила мужу двоих сыновей, красивых и смышленых. Но в их глазах иногда различал отец почти неуловимый отсвет птичьего образа.
Вопреки всем усилиям Матиори, жена оставалась для него какой-то непроницаемой и отчужденной. Невзирая на полное согласие, которое между ними царило, муж так и не ощутил жену своей и близкой. Поначалу он считал это нормальным. Ведь жене пришлось полностью перевоплотиться: из вольной птицы, привыкшей летать в стае, превратиться в замужнюю женщину, свившую свое гнездо на берегу, в мать семейства. И Нисияма справилась с этим.
Но о себе жена никогда не говорила. Хотя и на вопросы отвечала, и как будто не таилась. Но все же беспокойство не отпускало Матиори. Что-то было не так. Какая-то червоточина в их отношениях оставалась.
Словно Матиори научился играть лишь несколько простейших мотивчиков на старинном совершенном инструменте — кото. Наловчился тарабанить лишь свою примитивную песню. Вызвать же к жизни тонкие, возвышенные звуки он так и не сумел.
Матиори страдал. Его постоянно терзали тоска и мука неприкаянности.
Бывало, пройдет Нисияма по дому, зашумит бамбуковой занавеской, а на мужа даже не взглянет. И словно повиснет в пространстве какая-то тяжелая пелена.
А может, Матиори надо было бы радоваться этой ее непохожести на других? Но нести все это в себе было неимоверно, нечеловечески трудно.
Перед Матиори вновь открылась потрясающе безнадежная пустыня одиночества, в которой ему предстояло плутать беспомощно, безвыходно.
В нем зародилось разочарование в любви жены, поначалу казавшейся умопомрачительно совершенной. Ведь что бы ни происходило между ними, жена по-прежнему оставалась недоступной. Нисияма подпускала к себе настолько близко, насколько это вообще возможно. Ближе даже, чем обыкновенно умеют или на что отваживаются иные жены. Но все же муж ощущал себя пламенем, беснующимся на поверхности ее тела, но никогда жена не воспламенялась вместе с ним. Нечто неизменно твердое в ней, неподвластное огню, по которому языки пламени лишь скользили, могло, конечно, под его огнем превратиться в пепел, но в пламя — никогда.
В глубине души Матиори подозревал, что причина, не дающая ему превратить супругу в полыхающий пожар, кроется в нем самом.
Ибо он жаждал испытать в объятиях жены нечто иное, чем пламя, которым сам сжигал ее.
Чего именно он хотел от Нисиямы, он и сам не знал. Возможно, жене следовало ради него превратиться в мужчину, а ему нужно было стать женщиной?
А может, такой близости, к которой стремился Матиори, в природе и не существует? Каким бы полным ни был миг слияния, двое любящих все же остаются лишь двумя половинами целого, но не целым.
Однако жажда абсолютного слияния настолько овладела душой Матиори, что все остальное перестало для него существовать.
И он вспомнил о том времени, когда Нисияма была птицей. О времени надежд.
На побережье все было по-прежнему. Много лет рыбак каждый день ходил по этому берегу, мимо большого валуна, под которым он когда-то схоронил белое одеяние из перьев. А теперь Матиори впервые посетило желание отодвинуть валун и заглянуть под него.
Вдруг на берегу показалась Нисияма.
— Я буду купаться. — Она нетерпеливо сбросила одежду и побежала к воде.
Глядя ей вслед, Матиори вспомнил то давнее купание девушек. Хотя Нисияма осталась стройной и гибкой, но кожа ее уже не была столь белоснежной и упругой, как тогда. На спине и бедрах она слегка одрябла, да и грудь чуть увяла.
Жена, вскрикнув, бросилась в воду. Уплыла она далеко и все не возвращалась.
Когда Нисияма вернулась, она показалась мужу посвежевшей и счастливой. Не дойдя до берега, она легла на спину и едва заметно покачивалась на воде в такт дыханию, вверх-вниз, раскинув руки и ноги.
Лицо Нисиямы светилось от упоения, такого выражения на ее лице прежде Матиори никогда не доводилось видеть. В его сердце больно воткнулось жало: ласка моря оказалась слаще его ласк.
Не помня себя от ревности, Матиори схватил жену и потащил к валуну, под которым когда-то спрятал перья.
Оперение лежало под валуном. Присев на корточки, Нисияма нерешительно протянула к нему руку, подняла его и вдруг вскрикнула. На глазах у мужа она стала превращаться в себя прежнюю. Через несколько мгновений она опять была той длинноволосой девушкой, которую давным-давно увел отсюда Матиори.
Внезапно он осознал, что именно этого все время ждал от жены, именно это он страстно пытался воссоздать через нее в себе. То было бессмертие. Он вдруг увидел двуединство конечного и бесконечного в их взаимосвязи. Всю жизнь он подозревал в жене способность в любую минуту вернуться в свое прежнее состояние, вечную возможность начать все сначала, даже восстать из пепла и обрести бессмертие.
Нисияма натянула на себя оперение. Матиори в отчаянии наблюдал, как она, словно не видя мужа, направилась к морю. Она была птицей и, казалось, уже забыла все, что приключилось с ней в человеческом обличье. Ступала она чуть скованно, видно, долгий срок человеческого существования частично лишил ее птичьей грации.
В мозгу Матиори проносились обрывки воспоминаний, далеких видений и непонятные детали каких-то ритуалов.
Еще не поздно. Птица только-только привыкла к своим крыльям, училась их вновь ощущать. Но она уже предчувствовала свой полет.
В руках Матиори сжимал сеть. В его горле стоял комок, а в глазах горел хищный огонь.
Жажда слияния была острой, как нож, она расщепляла его от головы до ног. Боль была нестерпимой. Но он не хотел боли, слишком незаслуженной она ему казалась. Удушьем обрушилась на него бессмысленная ярость против жены, против судьбы, против себя.
Небо сияло и светилось, на земле горел обжигающий огонь, который когда-то, в незапамятные времена, был принесен с неба на землю.
Птица еще не поднялась в воздух…“
Настя отложила в сторону авторучку и закурила. „А белая птица, спрятавшая оперение под камень обыденной жизни? Как давно примеряла свои перышки?“ — спрашивала себя Анастасия.
В городе зажигались вечерние огни, и Настя в который раз отметила, что вся реклама, как на ходулях, держится на использовании бренного женского тела.
Журналы, рекламные проспекты, открытки тем и знамениты, что расчленяют женские изображения на детали, сексуальные атрибуты, объекты потребления. Ей иногда казалось, что производители товаров нашли пропорциональное соответствие: расфасованным, взвешенным продуктам соответствуют рекламные изображения и этикетки с „кусочками“ тела, причем именно женского. Так уж повелось с древности, что мужское тело считается неаппетитным. „Наверное, потому аспирантки и украсили изображениями обнаженных мужчин стены вокруг унитаза, а не обеденного стола“, — думала Настасья.
Она отыскала трактат американки Маргарет Этвуд „Женское тело“, когда-то засунутый в папку с надписью „Female“, куда складывала материалы на женскую тему, имеющие шанс пригодиться в работе. Идеи заокеанской феминистки как нельзя более подходили к ее сегодняшним мыслям.
„Нормальному женскому телу соответствует следующее: пояс с подвязками, резинки, кринолин, комбинация, турнюр, бюстгальтер, корсаж, ночная рубашка, пояс верности, туфли на шпильках, кольцо в носу, вуаль, лайковые перчатки, чулки „рыбачья сеть“, косынка, обруч для волос, „Веселая вдова“ — траурная ленточка на шляпке, горжетка, заколка, браслеты, бусы, лоретка, боа, тушь для ресниц, компакт-пудра, колготки, пеньюар, кружевное белье, кровать, голова“. Настя восхитилась этим исчерпывающим перечислением в стиле сюрреалистических картин Рене Магрита и вспомнила, что сегодня уже писала про рыбачью сеть, правда, не в чулочном варианте.
Она стала читать дальше:
„Женское тело знает множество применений. Его используют как дверную ручку, как штопор, как ходики с тикающим животом, как стойку для торшера, как щипцы для орехов — надо крепко сжать медные ляжки, и тут же выскочит орешек! Оно гордо несет факелы, возносит победные венки, машет медными крыльями, бросает ввысь неоновые звезды, целые здания покоятся на его мраморных головах.
Женское тело продает автомобили, пиво, лосьон для бритья, сигареты, спиртное, оно продает рецепты для похудания, брильянты и прочее. Не оно ли выбрасывает на рынок тысячи товаров?
Женское тело не только продает, но и само продается. Деньги притекают в эту страну и в ту страну, прилетают, вползают целыми мешками, соблазненные этими безволосыми детскими бедрами“.
Она вспомнила отзывы о фильме „Тело как доказательство“ с Мадонной в главной роли и подумала, что надо бы взять кассету и посмотреть.
Потом отключила телефон, наскоро поужинала и забралась в постель с первой попавшейся книгой. Ею оказалась „Иллюстрированная энциклопедия моды“. Рассматривая книгу, Настя думала, что в каждой женщине есть что-то продажное. Именно поэтому она покупает самые модные вещи. Купля и продажа — по сути две стороны одной медали… Ей нравились наряды начала века: узкие юбки, в которых почти невозможно ходить, изящные шляпки с перьями, рожками и вуалетками, ставшие, наконец, соразмерными дамским мозгам, упомянутые американкой меховые шарфы — боа, и все, все, отороченное мехом! Повсеместное, но немыслимое сочетание тончайших тканей и мехов, очевидно, подсказавшее Маяковскому просто гениальный образ: „бюстгальтеры на меху“. Она обожала стиль Айседоры Дункан, презревшей корсет и танцевавшей в свободном, просвечивающем платье на манер древнегреческого пеплоса…

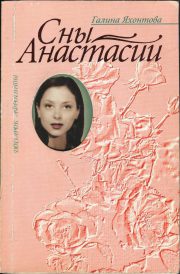
"Сны Анастасии" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сны Анастасии". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сны Анастасии" друзьям в соцсетях.