- Почему ты скрывал ее? - продолжал настаивать Кэм.
Меррипен на мгновение прервал свое занятие, чтобы холодно и мрачно взглянуть на него.
- Мне сказали, что это печать проклятия. Оно означает, что я или кто-то близкий мне, обречен умереть рядом со мной.
Кэм не выказал никакой реакции на его слова, но почувствовал, как по шее вниз побежал холодок страха.
- Кто ты, Меррипен? - мягко спросил он.
Огромный цыган возобновил свою работу.
- Никто.
- Когда-то ты был частью племени. У тебя, должно быть, была семья.
- Я не помню отца. Моя мать умерла, когда я родился.
- У меня так же. Я воспитывался бабушкой.
Движение щетки замерло. Ни один из них не пошевелился. Конюшня заполнилась напряженной тишиной, не считая сопения и шороха лошадей.
- Я воспитывался своим дядей. Он растил меня, чтобы я был asharibe.
- А… - Кэм постарался, чтобы в его голосе не прозвучало и намека на жалость, а в глубине души подумал: бедный ребенок.
Неудивительно, что Меррипен так хорошо дрался. В некоторых цыганских племенах выбирали самых сильных мальчиков и тренировали их для боев без правил, чтобы выставлять на ярмарках, сельских праздниках, в пабах против других ребят. Чтобы делать на них ставки. Некоторые из мальчишек были навсегда изуродованы, или даже убиты. А те, кто выжил, считались борцами, и определялись как воины племени.
- Так вот, почему у тебя такой сладкий характер, - сказал Кэм. - Поэтому ты и остался с Хатауэйями, когда они приняли тебя? Не хотел больше жить как asharibe?
- Да.
- Ты лжешь, phral, - сказал Кэм, пристально наблюдая за ним. - Ты остался по другой причине. - Кэм почувствовал своей цыганской сущностью, что натолкнулся на правду и спокойно добавил, - Ты остался из-за нее.
Глава 2 (книгоман, бета-ридинг: Gella/Оксана-Ксю)
Двенадцать лет назад
В нем не было ничего совершенного. Никакой мягкости. Он был воспитан, чтобы спать на твердой земле, довольствуясь тощим соломенным тюфяком, есть простую пищу, пить холодную воду и нападать на других мальчишек - по команде. Если он когда-либо отказывался драться, то его избивал дядя, rom baro, цыганский барон. И не было матери, чтобы просить за него, или отца, чтобы вмешаться в жестокие наказания rom baro. Никто никогда не прикасался к нему, кроме как для побоев. Он существовал только для того, чтобы драться, воровать и делать гадости gadjo.
Большинство цыган не ненавидели бледных, рыхлых англичан, живущих в опрятных домиках, носящих карманные часы и читающих книги у очага. Они просто не доверяли им. Но в племени Кева презирали gadjo, главным образом, потому что так делал rom baro. И, несмотря на все причуды лидера, собственное мнение и испытываемые ими чувства к англичанам, все обязаны были следовать за ним.
В конечном счете, из-за того, что племя цыганского барона причиняло вред и доставляло массу неприятностей, когда разбивало свой лагерь рядом, gadjo решили прогнать их со своей земли. Англичане приехали на лошадях и с оружием. С оружием в руках отряд налетел на спящих цыган. Лагерь был разорен, всех прогнали, фургоны vardo были подожжены, а многих лошадей украли gadjo.
Кев пытался бороться с ними, чтобы защитить vista, но был повержен ударом приклада по голове и проколот штыком. Племя посчитало его мертвым. Один, ночью, он лежал в полубессознательном состоянии у реки, слушая шум воды и чувствуя холод и влагу земли под собой. Он смутно сознавал, что влагой была его собственная кровь, медленно вытекающая из его тела. Он без страха ждал, когда окунется в полную темноту. У него не было причины и желания жить.
Но, когда Ночь сменила ее сестра Утро, Кев был подобран и увезен на маленькой простой телеге. Gadjo нашел его и с помощью мальчика, своего сына, забрал умирающего цыгана в свой дом.
Это был первый раз, когда Кев оказался под крышей не vardo. Он разрывался от противоречивых эмоций. С одной стороны - любопытство к незнакомой окружающей среде, а с другой - гнев на неуважение к нему, потому что ему приходилось умирать в закрытом помещении и на попечении gadjo. Но Кев был слишком слаб, испытывал слишком сильную боль, чтобы шевельнуть хоть пальцем в свою защиту.
Комната, которую он занял, была не намного больше, чем лошадиное стойло, и в ней находились только кровать и стул. А так же множество подушек с рюшками и оборочками, и лампа, украшенная женским рукоделием. Если бы он не был настолько болен, то просто сошел бы с ума в этой небольшой женственной комнатушке.
Gadjo, который принес его сюда… Хатауэй… был высоким стройным мужчиной со светлыми волосами. Его вежливые манеры и внимательность вызвали у Кева враждебность. Почему Хатауэй спас его? Что он хочет от цыганского мальчишки? Кев отказывался разговаривать с gadjo и принимать лекарство. Он отклонял любое проявление доброты. Он ничего не был должен этим Хатауэйям. Он не хотел, чтобы его спасали, он не хотел жить. Таким образом, парень только вздрагивал и тихо стонал, когда мужчина менял повязку на его спине.
Кев заговорил лишь однажды, и это случилось, когда Хатауэй спросил его о татуировке.
- Что она означает?
- Это - проклятие, - прошипел Кев сквозь зубы. - Не рассказывайте о ней никому, иначе проклятие падет и на Вас тоже.
- Я вижу, - в голосе мужчины звучала доброта. - Я сохраню твою тайну. Но скажу тебе, что как рациональный человек, я не верю в подобные суеверия. У проклятия есть только такая власть, которую дает ему сам человек.
Глупый gadjo, подумал Кев. Все знали, что отрицать проклятие означало накликать на себя еще большую беду.
У них было шумное домашнее хозяйство, полное детей. Кев мог слышать их из-за закрытой двери комнаты, в которой находился. Но было что-то еще… слабое, приятное присутствие поблизости. Он чувствовал, как это колебалось, вне комнаты, вне пределов его досягаемости. И он тосковал по нему, желая спасения от темноты, лихорадки и боли.
Среди шума детей, препирающихся, смеющихся, поющих, он услышал голос, от которого дыбом встали волосы на его теле. Голос девочки. Прекрасный, успокаивающий. Он хотел, чтобы она пришла к нему. Хотел, потому, что сам не мог пойти к ней, из-за ран, заживающих с мучительной медлительностью. Приди ко мне…
Но она никогда не появлялась. Единственными, кто заходил в комнату, были Хатауэй и его жена, приятная, но пугливая женщина, которая относилась к Кеву, как к дикому животному, которое случайно забрело в ее цивилизованный дом. Поэтому он и вел себя соответственно, отталкивая и ругаясь всякий раз, когда они подходили к нему. Как только цыган смог самостоятельно шевелится, он вымылся в миске теплой воды, которую они принесли в комнату. Молодой человек не ел перед ними, а ждал, пока они оставят поднос у его кровати. Все его стремления сводились к тому, чтобы поскорее выздороветь и сбежать.
Пару раз дети приходили, чтобы взглянуть на него в щель неплотно прикрытой двери. Иногда это были две маленькие девчушки, Поппи и Беатрикс, которые со смехом и восторженным визжанием убегали прочь, когда он ворчал на них. Была еще одна девочка, старшая дочь Хатауэйев, Амелия, которая глядела на него с таким же скептицизмом, что и мать. И был высокий голубоглазый мальчик, Лео, которой по виду был не намного старше Кева.
- Я хочу объяснить, - сказал он с порога тихим голосом, - что никто не собирается тебя тут обижать. Как только ты сможешь уйти, то волен сделать это в любую минуту. - Он пристально взглянул на угрюмое лицо Кева, прежде чем заявить, - Мой отец - добрый человек. Самаритянин. Но я не такой. Так что не думай даже о том, чтобы навредить или оскорбить кого-нибудь из моей семьи. Или ответишь мне за это.
Кев уважал такое. Поэтому утвердительно кивнул. Конечно, если бы Кев был в форме, то мог бы легко разделаться с этим мальчишкой, избить до крови или поломать тому кости. Но Кев начал понимать, что эта необычная семья на самом деле не желала ему зла. И при этом они ничего от него не хотели. Хатауэйи просто предоставили ему крышу над головой и уход, как если бы он был беспризорной собакой. За это они, казалось, ничего не ожидали взамен.
Это не уменьшило его презрение к ним, и к их смехотворному, мягкому, удобному мирку. Цыган ненавидел их всех почти так же сильно, как самого себя. Он был драчуном, вором, погруженным в насилие и обман. Разве они этого не видели? У этих gadjos, видимо, совершенно отсутствовало понимание той опасности, которую они сами принесли в свой дом.
Через неделю лихорадка у Кева уменьшилась, а рана достаточно затянулась, что позволяло ему двигаться. Он должен был уйти прежде, чем совершит что-то ужасное. Поэтому, проснувшись однажды утром, он встал, и оделся в одежду, которую ему дали, и которая раньше принадлежала Лео.
Полученная рана все еще очень болела, но Кев игнорировал и ее, и приливы жуткой головной боли, накатывающей на него. Он сложил в карманы нож и вилку с подноса с едой, огарок свечи, обмылок. Первые лучи солнца проникли в комнату через небольшое окно в изголовье кровати. Вскоре должна была проснуться вся семья.
Он направился было к двери, но сильнейшее головокружение откинуло его на постель в почти бессознательном состоянии. Задыхаясь, он попытался собраться с силами.
Раздался скрип открываемой двери. Его пересохшее горло смогли издать только рык, чтобы отпугнуть незваного посетителя.
- Можно мне войти? - услышал он нежный голос девочки.
Проклятия так и не сорвались с губ Кева. Он был потрясен, закрыл глаза и, не осмеливаясь дышать, ждал.
Это - ты. Ты здесь.
Наконец.
- Ты так долго был один, - сказала она, подходя к нему. - Я подумала, что, может, тебе нужна компания. Я - Уиннифред.
Кев утонул в ее аромате и звуке голоса, его сердце учащенно забилось. Он расслабился, игнорируя боль, пронизывающую его. Затем открыл глаза.
Он никогда не думал, что какая-то из gadjo сможет сравниться с цыганскими девочками. Но эта была просто чудесная: эфемерное существо, бледное как лунный свет, со светлым, с серебристым отливом, каскадом волос. Но в тоже время, она выглядела живой, невинной и мягкой. В ней было все, чего не было у него. Не доверяя своим глазам, цыган потянулся и с тихим рычанием схватил ее за руку.
Она испуганно вздохнула, но не сопротивлялась. Кев знал, что не должен касаться ее. Он не умел быть нежным. Причинил бы ей боль, сам того не желая. И все же, она расслабилась в его руке, и уставилась на него своими невероятными голубыми глазами.
Почему девочка не испугалась? Он сам был напуган за нее, потому что знал, на что способен.
Кев сам не заметил, как притянул ее ближе. Все, что он осознал - это то, что она почти полностью лежит на нем, а его пальцы грубо вцепились в нежную плоть ее руки.
- Отпусти, - мягко сказала Уин.
Кев не хотел. Никогда. Он хотел держать ее на себе, распустить ее косы и сквозь пальцы пропустить шелк ее волос. Он хотел прижать ее своим телом к земле.
- Если я отпущу тебя, ты останешься? - грубо спросил он.
Ее тонкие губы изогнулись. В сладкой, восхитительной улыбке.
- Глупый мальчик. Конечно, останусь. Я пришла, чтобы навестить тебя.
Его пальцы медленно расслабились. Парень было подумал, что она убежит, но она осталась.
- Ложись удобней, - сказала ему девочка. - А почему ты одет в такую рань? - ее глаза расширились. - О. Ты не должен уходить. Только, когда выздоровеешь.
Ей не о чем волноваться. Планы Кева сбежать испарились, лишь только он ее увидел. Цыган расслабленно откинулся назад на подушки, пристально наблюдая, как она садится на стул. На ней было розовое платье. По подолу, на запястьях и на шее его украшали кружева.
- Как тебя зовут? - спросила она.
Кеву не хотелось разговаривать. Ему была ненавистна мысль об общении с кем-либо. Но он должен был поддерживать беседу, чтобы удержать ее рядом с собой подольше.
- Меррипен.
- Это твое имя?
Он покачал головой.
Уин слегка наклонилась к нему.
- Разве ты не скажешь мне свое имя?
Он не мог. Цыган мог назвать свое истинное имя только другому цыгану.
- По крайней мере, скажи мне свое первое имя, - уговаривала она.
Кев озадаченно уставился на нее.
- Я знаю не слишком много цыганских имен, - сказала она. - Может - Лука? Марк? Стефан?
Кев догадался, что она пытается вовлечь его в игру с разгадыванием. Поддразнивает его. Он не знал, как ответить. Обычно, если кто-то пытался его дразнить, он отвечал ударом своего кулака в лицо обидчика.
- Когда-нибудь ты обязательно скажешь мне его, - пообещала она с улыбкой.
Она стала подниматься со стула, и Кев тут же схватил ее за запястье. Удивление отразилось на ее лице.

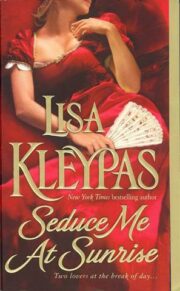
"Соблазни меня на рассвете" отзывы
Отзывы читателей о книге "Соблазни меня на рассвете". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Соблазни меня на рассвете" друзьям в соцсетях.