Как раз тогда он встретился с Гюставом Флобером. Он описывал толстого человека, с голубыми глазами, с ярким цветом лица, с длинными свисающими усами, стоящего с трубкой в зубах перед своими перемаранными страницами, с сильным и сочным голосом, с шумным юмором, с размашистыми движениями. Из всех речей учителя Поль Ренодье усвоил только его отвращение к человечеству, его ненависть к уродству, его презрение к пошлости; он поддался влиянию его пессимизма, угрюмого и безнадежного. Громовое слово учителя потрясло в нем те части его существа, которые были втайне подточены и теперь рассыпались в прах. Перед ним раскрылся путь, голый, сухой, каменистый, по которому ему приходилось отныне идти. Если у него не хватало сил подбирать с дороги камни и бросать их в лицо своему веку, то он хотел, по крайней мере, заставить его вдохнуть горький запах цветов придорожных откосов. И он написал свою первую комедию, к аромату которой он примешал несколько листьев с терпким запахом.
Он, быть может, остановился бы на этом, на пессимизме, к которому примешивались ирония и сожаление, если бы не разразилась война 1870 года[8]. В течение долгих месяцев, среди ужасной близости катастроф, ему пришлось быть свидетелем всего эгоизма, всей низости, всей глупости и гнусности, которые таит в себе человек. Он наблюдал открыто, в циничной обнаженности то, что остается обычно скрытым в тайниках души. Он видел, как люди лгали, воровали, грабили, убивали. Он слышал, как произносили речи, как пустословили. И он вышел из всего этого с чувством омерзения. Он проверил на живой действительности отвлеченные истины философов и моралистов, наиболее строгих к человеку. Но он не был в силах подняться до них. Тем не менее он хотел высказать на свой лад, в меру своих сил, все то, в чем он чувствовал себя с ними заодно, высказать это доступными ему средствами: бывают удары кнута более жестокие, нежели удары дубины. И он написал «Школу Глупцов»…
Марселю хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать этого голоса, саркастический оттенок которого преследовал его. Ах, зачем его отец не остановился на этом? К чему за разочарованиями ума захотел он поведать ему и разочарование своего сердца? И последнее из них, самое ужасное, осталось для него кровоточащей раной. Оно унесло его последнюю надежду на счастье, оно погасило последний огонек, еще мерцавший ему в глубине будущего…
Да, он, Поль Ренодье, поверил на миг, что жизнь среди мировой скорби может еще дать нечто прекрасное! Он захотел быть счастливым… В день первого представления «Школы Глупцов» он встретился с девицею Дивон. Она дебютировала в роли Клементины. Прекрасная, робкая, нежная, очаровательная… Он влюбился в нее без ума. Женился на ней. Ах, что значили для него отныне злоба и уродство всего мира! Он любил, он был любим! У них родился сын… Однажды вечером, когда он вернулся домой, он застал ребенка кричащим в кроватке. Дом был пуст. Ничего, ни слова прощания или сожаления. Он никогда более не слыхал о беглянке… Позже, гораздо позже узнал он, что она погибла при пожаре в одном из театров Чикаго, где она служила горничной при актрисах.
Марсель Ренодье снова видел отца, вскочившего в припадке гнева и боли и шагавшего взад и вперед по кабинету дрожащей поступью, меж тем как в хрустальной вазе осыпалась ночная роза, лепестки которой, казалось, соединились на столе в лужу темной крови.
Марсель Ренодье провел рукой по влажному лбу и огляделся вокруг: вещи стояли на тех же местах, как и раньше. Старая Эрнестина бродила в прихожей. Голуби царапали лапками по кровле и ворковали за окном. Но, тем не менее, все как-то изменилось. Отца не было. Его не было в спальне, той комнате, где сын находил его по утрам, с глазами, открытыми после бессонной ночи, или с веками, отяжелевшими от услужливого яда, который дарил ему немного сна. Его не было и за запертой дверью кабинета. Один лишь портрет его смотрел там на розу, засохшую в хрустальной вазе, без воды. Кончено! Отныне Марсель — один, один в этом доме, один в Париже, чью грозную и шумную протяженность он видел с мрачной высоты кладбища Пер-Лашез, — один в целом мире, этом мире, которого он не знал и к которому он был полон чувства отвращения, недоверия и ужаса.
IV
С тех пор как скончался Поль Ренодье, Сириль Бютелэ не показывался на улице Валуа. Желал ли он дать понять этим отчуждением, что он, знаменитый художник, богатый и избалованный, не хочет поддерживать отношений с молодым человеком, от которого он не ждет никакого удовольствия и никакой выгоды? Чувство это — из тех, которые можно нередко встретить, так как оно является естественным следствием эгоизма. Если Бютелэ относился всегда дружески к г-ну Ренодье, то это потому, что он находил удовольствие в беседе с ним; но чего он мог ожидать от юноши, застенчивого и молчаливого? Марсель понимал эту разницу и мирился с тем, что им не интересуются. А между тем ему было бы приятно послушать об отце от кого-нибудь другого, кроме старой Эрнестины. Поэтому он отважился пойти сам к нему, решив, что если визит этот покажется докучливым, сделать его кратким и более не возобновлять.
Так думал он, переходя площадь Карусель. Дойдя до набережной левого берега, он замедлил шаги. В былое время он часто приходил сюда смотреть, перебирая книги на стойках, как течет река. Иногда он приносил отцу какой-нибудь том, истрепанный и запыленный. Это воспоминание омрачило его. Он быстро отошел от ящиков с книгами и направился по улице Бак.
Бютелэ занимал там, в доме 117-bis небольшой и низенький особняк, расположенный в конце длинного сводчатого коридора. У двери, выкрашенной в ярко-синий цвет, блестела медная ручка. Он позвонил. Появилась служанка. Это была худощавая особа, бледная, с прекрасными волосами, закрученными в пышные узлы. Он прошел за ней в прихожую; сделав ему реверанс и улыбнувшись своими белыми зубами, она указала ему лестницу, которая вела в мастерскую. Марсель постучал. Бютелэ крикнул, чтобы он вошел, между тем как до его слуха донесся заглушенный смех молоденькой служанки, которая следила за ним снизу, поправляя один из узлов своей прически. Он стоял в нерешительности, когда увидел Бютелэ, показавшегося на пороге с палитрой в руке. Позади художника, в глубине комнаты, на фоне протянутой драпировки выделялось тело нагой молодой женщины. Завидя Марселя, женщина убежала и спряталась за колеблющейся тканью… Марсель в затруднении не знал, что ему делать; голос Бютелэ успокоил его:
— Как, черт возьми, это вы, дорогой Марсель? Я думал, что это Беттина. Но вы мне совсем не мешаете. Я кончил свою дневную работу и рад вас видеть… Да нет же, нет, вы пришли вполне кстати… Вас направила сюда проказница Беттина, не так ли? Это не беда. Я писал этюд нагого тела. Мило, не правда ли?
Он указал на мольберт, где стоял подрамок. На холсте Марсель узнал только что виденное мельком тело, воспроизведенное с его красками и формой, но преображенное таинственным очарованием, очарованием столь своеобразным, что оно являлось как бы подписью мастера.
Пока Марсель восхищался, Бютелэ соскабливал с палитры краски гибким ножом, наблюдая в то же время за драпировкой, складки которой шевелились и за которой слышалось порой шуршание ткани. Он продолжал:
— Мило, не правда ли?.. Да… Когда я скучаю и у меня нет модели, я зову Аннину или Беттину. Они красивы, эти две малютки… Я привез их из Венеции в прошлом году. Они забавляют меня своим венецианским жаргоном. Они напоминают мне их страну, которую я обожаю. Когда они щебечут, то мне кажется, что я там. К тому же они недурно служат мне: Беттине очень удаются пирожные, у Аннины же нет особых талантов… Аннина — это та, что одевается… Ну, скорей же, Аннина!
Занавеска заколыхалась. Бютелэ продолжал:
— Единственное неудобство — это то, что они не ладят между собой и не переставая ссорятся и устраивают друг другу разные штуки. Конечно, чтобы отомстить Аннине за какую-нибудь тайную обиду, несносная Беттина провела вас в мастерскую в то время, как та позировала… Сейчас они будут драться и таскать друг друга за волосы: это жаль, потому что волосы у них прекрасные, — как грациозна, не правда ли, эта прическа с большими узлами… Ну вот и мадемуазель Аннина.
Она подняла занавеску и подошла, опустив глаза, высокая, с телом гибким и стройным. У нее было несколько удлиненное лицо с нежными и мягкими чертами, тонкий нос, немного пухлые, словно вздернутые улыбкой губы. На шее у нее было стеклянное ожерелье из зеленых шариков; она остановилась перед художником, который спросил у нее что-то по-итальянски, между тем как она искоса поглядывала поочередно то на Марселя, то на полотно, где была изображена ее нагая красота. Когда Бютелэ умолк, она ответила ему несколькими словами, одернула на шее зеленое ожерелье и вышла с достоинством, не оборачивая головы, на которой кокетливо вздымались тяжелые узлы ее волос. Бютелэ отложил палитру и нож.
— Я сказал ей, что случившееся очень полезно для нее и что это отучит ее мучить Беттину. Впрочем, будьте уверены, — в глубине души она очень довольна тем, что ее застигли врасплох; она отлично знает, что сложена на диво, негодница… Ах, юный Ренодье, что за чудесная вещь прекрасное тело! Я мог бы писать его сто лет. Жизнь, понимаете ли, чересчур коротка!
Он вздохнул, подошел к зеркалу, висевшему на стене в мастерской, пригладил прядь седых волос, закрутил усы и с минуту рассматривал себя молча, затем вернулся и сел в качалку против Марселя, который стоял возле мольберта. Наступила минута молчания. Лицо художника стало печальным. Он скрестил обе руки на колене и сказал медленно, обращаясь к молодому человеку:
— Благодарю вас за то, что вы пришли, дорогой Марсель; если я не шел к вам, то не из равнодушия, будьте в том уверены, а из осторожности. Я знал, что вы очень несчастны, и боялся быть навязчивым в вашем горе. Лучшие друзья в таких случаях должны быть сдержанны. Только позднее они могут пригодиться…
Он остановился на мгновение.
— Я очень бы хотел, дорогой Марсель, для вас что-нибудь сделать и думаю, что могу быть вам полезен в одном отношении, но это очень деликатный вопрос, и об этом трудно говорить… Но я все же решусь… Я очень любил вашего отца, но я опасаюсь, что он чересчур прочно внушил вам свою манеру мыслить и чувствовать, слишком глубоко внедрил в вас свое отношение к жизни. Я не раз беседовал с ним на эту тему. Он раздражался моими возражениями. Он думал предостеречь вас таким образом от обманчивого призрака счастья и избавить от разочарований, которые он за собой влечет. Ваш отец считал своим долгом дать вам возможность воспользоваться его опытом: без этого, думалось ему, он оставляет вас безоружным и беззащитным. Он хотел, формируя ваш ум по образцу своего, остаться в вас и после смерти, и я боюсь, очень боюсь, что он в этом вполне преуспел.
Марсель Ренодье слушал художника, опустив голову. Он признавал истину его речей. Бютелэ продолжал:
— Смерть любимого существа — минута страшная. Он умирает для наших глаз, но возрождается в нашей памяти. Он овладевает в ней своим местом, проявляет в ней свое лицо, утверждает свою власть. С этой минуты определяются отношения, которые установятся между ним и нами. Как видите, это — минута решительная: минута, когда то, что будет нашей жизнью, отделяется от того, что было его жизнью… Себя или его будем мы продолжать? Ах, я хорошо знаю, что любовь, уважение, привычка побуждают нас подчиниться ему. Итак, пусть он управляет нашими мыслями и нашими поступками. Так! Но ведь это значит отказаться от самого себя и отстраниться от жизни… И вот к этому вы сейчас пришли.
Сириль Бютелэ оживился.
— Вы мне скажете, что вы заранее достаточно хорошо знаете, что такое жизнь, что вы не стремитесь попытать в жизни счастья, что вы подчиняетесь лишь тому, что в ней необходимо, и что вы не любопытны к ее возможностям… Это ваше право, ограничивать ваше соприкосновение с жизнью, но подумайте прежде, чем пользоваться этим правом, которое вы считаете отчасти как бы обязанностью и почти долгом чести. Не решайте своей судьбы, руководясь лишь одной чувствительностью или голосом совести. Не будет неблагодарностью по отношению к самому дорогому прошлому — отвести ему его место в вашей памяти, ограничив его участие в ваших поступках и мыслях… Вот то, что я хотел вам сказать и что сказал бы в присутствии вашего отца, если бы он был здесь.
Марсель Ренодье поднял голову.
— Я не философ, дорогой Марсель, и не собираюсь доказывать вам, что жизнь плоха или хороша в целом. Разумеется, я знал тяжелые минуты, страдал, стремился, сожалел. У меня были поводы жаловаться на людей, и все же меня огорчает, что я старею. Что бы там ни было, природа всегда с нами, с ее формами, красками, ароматами.
Сириль Бютелэ смотрел прямо перед собой, и лицо его утратило выражение усталости. Он подошел к мольберту. Стекло монокля приподнимало дугою его нервную бровь. Большим пальцем своей худой и ловкой руки он коснулся на полотне сладострастного образа. Марсель смотрел на него, помолодевшего и выпрямившегося, меж тем как снизу, сквозь полуоткрытую дверь мастерской, вместе с молодым смехом доносились солнечные звуки итальянского говора, подобные радостному щебетанью птиц…

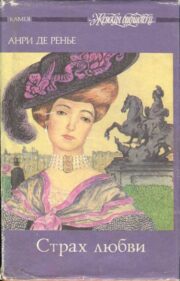
"Страх любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх любви" друзьям в соцсетях.