Однако я не предполагала, что отважусь на такой шаг, который прокурор, потребовавший приговорить меня к пятнадцати годам лишения свободы, позже назвал «предумышленное деяние», в чем мой адвокат не без успеха пытался разубедить состав суда.
– Высокий суд, – надрывался он на весь зал (наверняка слышно было даже в коридоре – ничего не скажешь, умелый оратор), – рано или поздно это должно было случиться. Моя подзащитная слишком часто подвергалась унижениям как моральным, так и физическим, – тут мэтр многозначительно поднял вверх указательный палец, – со стороны покойного, пока не наступил тот момент, когда в ней что-то сломалось.
Откровенно говоря, его защитная речь звучала наигранно, но, наверное, так и надо было, ведь все, что взято непосредственно из жизни, выглядит неправдоподобно. Чего стоили его метафоры типа: «Если человек приносит домой оружие, то он обязан считаться с тем, что это оружие когда-нибудь выстрелит. Об этом говорил еще в свое время великий русский драматург Антон Чехов!» Адвокат пытался таким образом сообщить, что оружие принес в дом именно Эдвард. Меня воротило от его высокопарных слов. Хотя я была подавлена, но не смогла отделаться от своей привычки оценивать сказанное с литературной точки зрения. Сидя на скамье подсудимых в окружении двух конвоиров, я все время ощущала себя участницей низкопробной комедии в постановке неведомого мне режиссера, решившего позабавиться за мой счет. Только кто был этим режиссером? Судьба? Бог? В буквальном смысле этого слова верующей я не была. По сути, это означало, что у моего Бога не было определенного лица. Он существовал скорее в виде световой энергии. Но зачем Он усадил меня на эту скамью? Почему не предостерег заранее? Я не отдавала себе отчета в том, что происходит на самом деле, хотя на первый взгляд все мои действия выглядели логичными. Пройдя из спальни в кабинет, я вынула из тайника пистолет, вернулась обратно и, сняв его с предохранителя, нажала на курок. Все это, проделанное в строгой очередности, не попадало под формулировку «действие в состоянии аффекта». Однако именно так и было – только звук выстрела и расплывающееся на рубашке Эдварда красное пятно заставили меня осознать, что произошло в действительности. Швырнув пистолет на пол, я бросилась к нему, чтоб спасти. Зажимая ладонью рану на его груди, пыталась остановить кровь. Он медленно опустился на колени, а потом как-то неловко, боком, упал на спину. Его зрачки вдруг расширились, в глазах мелькнул животный страх, который в ту же секунду стал моим страхом. Так происходило все восемнадцать лет, которые мы прожили вместе. Все рождавшиеся в этом человеке чувства и эмоции тотчас передавались мне.
Он хотел что-то сказать. Но это давалось ему нелегко. Я не отнимала своей ладони, боясь, что кровь хлынет ручьем. Что– то человеческое появилось в его взгляде, мне никогда еще не приходилось видеть у него такого выражения лица.
– Тебя посадят, – отчетливо произнес он.
Его веки начали судорожно подергиваться. Я чувствовала, что он умирает. Не знаю, сколько времени я просидела возле него, час или два. Потом подошла к телефону.
– Я убила своего мужа. – Меня саму удивило, каким спокойным тоном я это произнесла.
Милиционер, как потом выяснилось – сержант Паёнк, ходил по квартире, что-то выискивая, а я сидела в столовой на стуле, сосредоточенно глядя на свои руки, бессильно лежащие на коленях. Они выглядели мертвыми. На лестнице послышались шаги, и в квартиру вошли несколько мужчин. На одном из них был белый халат, из их разговора я поняла, что он – врач из «скорой помощи». Был среди них и тип с фотоаппаратом. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, как будто меня вовсе не было. Меня это устраивало – внутренне я больше всего боялась, что придется войти в спальню, где лежал Эдвард, распростертый на полу. Я предчувствовала, что, если войду туда, мне больше не удастся сохранять спокойствие, которое было чем-то необъяснимым и для меня самой. Казалось, будто мне сделали холодный компресс изнутри. Я ничего не чувствовала. Не понимала, тепло или холодно в квартире. Не осознавала, в каком положении я оказалась. Моя голова, мой мозг были в каком-то заторможенном состоянии.
Наконец ко мне подошел один из приехавших со следственной группой и бесстрастным голосом сообщил, что я задержана на сорок восемь часов до выяснения всех обстоятельств преступления. Мне велели одеться и взять необходимые личные вещи. Только тут до меня дошло, что на мне надеты лишь короткая маечка на бретельках и трусики. Раньше я этого как– то не замечала. Мне стало стыдно. Мучительно стыдно оттого, что все эти посторонние мужчины видели меня раздетой. Не пойму, как можно было такое допустить. Я поплелась в ванную, но дверь мне закрыть не позволили. Видно, боялись, что я захочу покончить с собой. Один из них стоял и смотрел, как я одеваюсь, мечусь в поисках косметички, а потом кладу в нее пудреницу, зубную щетку, начатый тюбик пасты. Я спросила, нужно ли брать с собой мыло, на что карауливший меня мужчина никак не отреагировал, будто не слышал вопроса. Из ванной я вышла одетой в черный свитер и шерстяную юбку – в те вещи, которые до этого бросила в стирку. Не знаю, почему я натянула именно их. Почему не надела что-нибудь другое. Например, вещи, которые были на мне в тот день. Они лежали на полу в кабинете, рядом с брюками Эдварда: юбка и блузка. Наверно, я этого не сделала потому, что не хотела туда входить. Они спросили, не нуждаюсь ли я во врачебной помощи, не больна ли диабетом или астмой. Я ответила отрицательно. Наконец мы вышли на лестничную площадку. Я хотела запереть квартиру на ключ, как делала это сотни раз до этого, но один из них схватил меня за руку. Внезапно я ощутила себя бездомной. Мне показалось, что я всегда себя так чувствовала. Я жила в разных квартирах, но ни одна из них не принадлежала мне. Даже та, в которой мы жили с Эдвардом. Это был его дом, в котором он жил задолго до нашей свадьбы.
Меня отвезли в комиссариат. Там человек в форме велел следовать за ним. Мы спустились по ступенькам в полуподвал. Он распахнул дверь в крохотное помещение. Там был только настил из досок, похожий на продолговатый ящик. В двери – запирающееся снаружи окошко. Под потолком горела голая, засиженная мухами лампочка. Помню, меня это сильно удивило, потому что самих мух нигде не было видно. Может, попрятались, а может, слились с серо-буро-малиновым цветом стен и стали невидимыми. Теперь-то я знаю, почему у стен моей камеры был такой странный цвет: внутри помещение ни с чем не должно было ассоциироваться. Обезличенный кубик пространства.
– А… попить что-нибудь можно? – спросила я, когда охранник принес одеяло.
В горле пересохло, я с трудом ворочала шершавым, как деревяшка, языком.
– В семь получишь завтрак, – коротко бросил он.
Меня удивило, что он говорит мне «ты». Другие обращались ко мне на «вы». «Другие» – это люди из следственной группы, которую по рации вызвал сержант Паёнк. Он, в свою очередь, называл меня гражданкой.
Я осталась в одиночестве. Уселась на деревянный настил и только в тот момент обнаружила, что на мне нет колготок. Впопыхах я натянула сапоги прямо на босу ногу. От цементного пола тянуло пронизывающим холодом, лодыжки задеревенели. Поеживаясь, я обхватила себя руками. Когда я мерзла, то всегда так делала, но теперь в этом жесте было что-то еще – как будто я действительно обнимала себя. Во мне вдруг появилось неизвестное до сих пор чувство трогательной заботы о себе, что-то вроде примирения с собой. Неужели, чтобы испытать нечто подобное, надо было убить человека? Неприязнь к себе, порой даже ненависть возводили стену, которую ни я, ни Эдвард не в состоянии были разрушить. Теперь эта стена рухнула, разлетелась на куски. Я сидела скрючившись, обнимая руками то, что было мною. Слышала биение своего сердца, ощущала тепло своего тела. Я была, я существовала.
Дарья
Я всегда считала, что такое имя должна носить красивая женщина. Я не считала себя красивой. Всю жизнь мне твердили, что я на кого-то похожа. То на какую-то актрису, то на зубную врачиху из районной поликлиники, то на проходившую в этот момент по улице незнакомую женщину, как будто я не имела права на собственное лицо. Однажды я даже одолжила его героине своего романа – это стало единственным способом, чтобы снова начать писать. Мне казалось, что я уже никогда не смогу взять перо – у меня его выбили из рук, и сделал это мой собственный муж… Книга, к написанию которой я приступила, скорее всего, не стала бы крупным успехом – такое ощущение у меня было с самого начала. Но я не в силах была сидеть без дела… И несмотря на то, что в моей голове пока не было ни одной стоящей мысли, я все же принялась кое– как склеивать сюжет своего будущего романа. Накануне введения военного положения ко мне заскочил знакомый фоторепортер и принес снимки, снятые скрытой камерой. На одном из них, сделанном в соборе Св. Яна, в толпе, я узнала себя. Так родился сюжет: американский журналист, разглядывая фотографии, останавливает свой взгляд на лице женщины, которое завораживает его до такой степени, что он решает ее отыскать и приезжает в Варшаву…
Это было сразу после телепередачи, в которой Эдвард принимал участие, и повел он себя по отношению ко мне просто мерзко. Говоря о положении польской литературы после краха коммунизма, он заявил:
– Ну что ж, в эпоху больших перемен истинные ценности уходят на второй план, таковы правила игры. Сейчас литературой стали баловаться писатели второразрядные, позвольте привести несколько имен…
И среди прочих назвал меня. В первый момент я подумала, что ослышалась. Но, к сожалению, другие тоже это слышали. Когда Эдвард наконец появился у меня – мы давно уже не жили вместе, – я напрямую спросила, зачем он это сказал.
Глядя мне прямо в глаза, кривя рот в усмешке, он сказал:
– А разве не так? Ты не вносишь нового содержания в литературу. Ведь ни Гомбровичем[3], ни Виткацем[4] тебя не назовешь. Пожалуй, только одна твоя книга могла бы считаться новаторской – до этого никто так о матери не писал. Ты разрушила сложившийся стереотип «Матери-польки»[5].
– Но об этом по телевизору ты не сказал!
– А зачем, все это и так знают!
Он хотел погладить меня по щеке в знак примирения, но я укусила его за руку. Эдвард побледнел и схватился за плащ.
– Проявляется твой белорусский характер, – сказал он.
Книга об американце у меня не шла. Неясное чувство тревоги, с которым я жила последнее время, нарастало. Телефон на моем столе молчал.
Вскоре Эдвард позвонил мне.
– Чем занимаешься? – спросил.
– Пишу второразрядный роман.
Он рассмеялся в трубку:
– Чувство юмора тебя не изменяет, это хорошо.
– К чувству юмора это никакого отношения не имеет, все дело в тебе.
– Хочешь, чтобы я заскочил?
– Совсем наоборот, – ледяным тоном ответила я и повесила трубку.
Через минуту телефон зазвонил снова.
– И все-таки я собирался зайти к тебе. Не убьешь же ты меня, в самом деле. Сама подумай, как бы это выглядело? Все скажут, что это месть автора своему суровому критику.
– Скорее месть жены подлому мужу.
– Муж и жена обычно спят в одной постели, – отрезал Эдвард, и послышались короткие гудки.
Я осталась стоять с трубкой в руке.
Я испытывала сущие муки ада, сидя перед чистым листом бумаги. И в этом тоже был виноват Эдвард – именно он посоветовал мне начать писать, можно сказать, почти насильно вложил авторучку в мои пальцы. Разве это подходящая профессия для женщины, тем более для такой несобранной, как я? Мое литературное творчество не только не помогало мне, но и разрушало меня изнутри. Всякий раз после окончания очередной книги возникало чувство душевного опустошения. У меня не было ничего: ни нормальной человеческой профессии, ни квартиры, ни друзей. Я даже не родила себе ребенка. Боялась стать матерью. Мне всегда казалось, что я неспособна к материнству. Мне бы, дай бог, с собой справиться… Имела ли я право обрекать живое существо на такую мать?
Если бы я снова смогла писать, окунуться с головой в судьбу своей героини со снимка внутри собора Св. Яна на Старом Месте… Это спасло бы меня от бессонницы, которая постепенно становилась кошмаром. Я не могла заснуть и лежала до утра с открытыми глазами. Каждую ночь. Кто сам этого не испытал, тому не понять, что отсутствие сна может превратиться в самую страшную пытку. Вот если бы мне удалось увидеть лицо моей будущей героини… На все лады я пыталась придумать ее портрет – по фотографиям приятельниц, знакомых, знаменитых актрис, первых встречных женщин… Из этого ничего не выходило – лицо распадалось на куски, как хрупкая гипсовая маска в руках. Хоть я и тосковала по Эдварду, но на сей раз твердо решила, что положу этому конец. Впрочем, такое его поведение было для меня не в новинку. Бывали случаи и похуже. Правда, мое положение тогда было иным. Удивительный парадокс: пока критики носились со мной как с писаной торбой, у меня не было читателей, а как только меня начали массово читать, критики объявили мне войну.

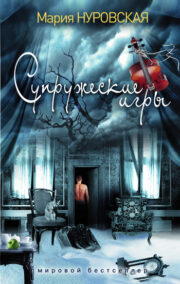
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.