Среди всяких мелочей я прихватила с собой ушные затычки, но сейчас было неудобно лезть за ними и копаться в своих вещах. Галдеж внизу все больше раздражал меня, однако сделать замечание я не отваживалась. От меня теперь ничего не зависело, и подобное положение вещей придется терпеть еще долго, на протяжении многих лет. Насколько проще было там, в предварительном заключении. Большую часть времени я просидела в одиночестве, и, хотя временами приходилось делить камеру с другими заключенными, это не было таким уж обременительным. С воли приходили люди, по большей части ошеломленные тем, что с ними произошло.
Им не до разговоров, они замкнуты в себе, и меня это вполне устраивало. Ничто так не доводит до отчаяния, как бессмысленный поток слов. «Я этого не вынесу», – мелькнула отчаянная мысль, и вдруг предостережения пани Воспитательницы приобрели реальный смысл. «Пани Воспитательница» – в моем положении абсурднее не придумаешь. Хотя… на протяжении всей моей жизни меня воспитывали, причем каждый на свой лад. Последним моим воспитателем стал Эдвард. Может, лучше называть ее политруком? Хотя нет, теперь свобода, и никто уже не нуждается в идейном воспитании в духе Народной Польши…
Болтовня внизу не смолкала. Внезапно до меня долетели слова: «Интересно, куда это наша Иза запропастилась – давненько она не читала нам моралей». Наша Иза… Эти слова явно относились к пани Воспитательнице. Так значит, ее зовут Иза…. В глубине души я недоумевала, отчего это ее персона занимает мои мысли. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной всплывало ее лицо. Я запомнила его почти с фотографической четкостью, до самой мельчайшей черточки. От моего внимания не ускользнуло даже коричневатое пятнышко на виске – довольно характерное потемнение кожи. Иза… Меня разбирало любопытство, как она выглядит в обычной одежде. Например, в юбке с блузкой. Скорее всего, судя по аромату духов, одевалась она со вкусом. Странно, но мне почему-то очень не хотелось, чтобы мое первое впечатление о ней оказалось обманчивым, не хотелось растерять присущее людям стремление восхищаться другим человеком. Прежде женщины не играли большой роли в моей жизни. Я не умела найти с ними общий язык, у меня это получалось лишь с мужчинами. Может, потому, что меня воспитала бабушка и я не знала своей матери. Да и не могла знать. Она исчезла из моей жизни, когда мне было всего две недели от роду. Подкинула меня бабушке и уехала. С тех пор мама ни разу не появлялась, не писала и не давала своего адреса. Бабушка ничего о ней не знала. Бабушкин муж, мой дед, погиб вскоре после окончания войны. Он был сотрудником госбезопасности, и «лесные братья» его убили. Бабушка очень любила деда, хотя, по ее воспоминаниям, жизнь с ним нельзя было назвать безоблачной – дед был человеком вспыльчивым и отчаянно ревновал ее. Однажды из-за своей ревности он продырявил потолок из пистолета. Позже, когда бабушка с моей матерью, которой было тогда лет девять, ушли на прогулку, дед достал стремянку и принялся замазывать отметины. Должно быть, в старом бабушкином доме следы от пуль на потолке сохранились до сегодняшнего дня. Только она после смерти мужа не захотела в нем оставаться. Не хотела даже ногой ступать на крыльцо, по ступеням которого его вывели на улицу под покровом темноты, со связанными за спиной руками, в одной рубахе и кальсонах. Деда расстреляли в лесу. Для бабушки воспоминания о прошлом были слишком тяжелыми, поэтому она забрала мою мать и уехала, согласившись стать экономкой у батюшки – православного священника. Жена батюшки была красивой и статной женщиной (она всегда производила на меня сильное впечатление) и не пожелала жить в деревне. Борисовка на самом-то деле была большой деревней, хотя о ней знали даже за границей – в свое время тут любил охотиться Геринг. Правда, она была знаменита не только этим: в ее окрестностях находился самый крупный заповедник зубров, а это, что ни говори, уникальные животные. Но попадья Екатерина Ивановна нс желала переезжать сюда из города, где имела шикарную квартиру, набитую антикварной мебелью, плюшевыми диванами, лампами самых причудливых форм и разнообразными самоварами. До меня доходили слухи, что этот брак был фиктивным и заключен главным образом для того, чтобы батюшка смог получить духовный сан благочинного: по правилам православной церкви священник не мог быть холостым. Все дело, по всей видимости, было в том, чтобы поп не вводил в грех женскую половину своей паствы и не таскал чужих баб в свой приход, как это нередко случается в среде католических священников.
Несмотря на то что моя бабушка и батюшка много лет прожили под одной крышей, между ними никогда не было физической близости. Когда батюшка вышел на пенсию, они переехали в Бялысток и поселились в маленькой двухкомнатной квартирке, продолжая жить в разных комнатах. Может, кому– то трудно в это поверить, но на самом деле все так и было. В Борисовке бабушку очень уважали и считались с ее мнением. Если Нина Андреевна сказала, то так тому и быть. О батюшке она всегда говорила, что он – святой человек. Заботилась о его комфорте, готовила ему, стирала, строго следила за тем, чтобы посетители не слишком докучали ему. Когда батюшка удалялся вздремнуть после обеда, мы обе ходили на цыпочках. Ребенком я всегда побаивалась его, и порой, завидев издалека, улепетывала во все лопатки.
– Дарья, – строго говорил он, – ну-ка подожди, Дарья.
Когда я была поменьше, он просто брал меня поперек и тащил под мышкой, несмотря на то что я вырывалась и брыкалась изо всех сил. Потом усаживал за стол и учил катехизису. А когда я подросла, обращался ко мне не иначе, как Дарья Александровна… Слышал бы это мой дядька – его бы удар хватил. Он ненавидел все, что хотя бы отдаленно было связано с Советским Союзом, и его невозможно было переубедить, что белорусов и другие народы просто втолкнули силой в этот союз. Белорусы – народ добрый и кроткий, говаривала бабушка, все зло на свете только от литовцев. Я росла в ненависти ко всему литовскому только потому, что мать бабушки, моя прабабка, пострадала от них. Дядя не хотел считаться с тем, что я наполовину, по матери, белоруска. Для него я была дочерью единственного брата, которого замучили коммунисты.
Мне не довелось узнать родителей. Когда я родилась, моего отца уже не было в живых. На него устроили облаву – видно, кто-то донес, где он скрывался. Поговаривали даже, что это моя бабка выдала отца за то, что тот совратил ее дочь. Но когда оказалось, что его возлюбленная ждет ребенка, он перешел в православную веру и обвенчался с ней в церкви. Видно, и вправду сильно любил. Мать была на пятом месяце беременности, когда за четыре дня до смерти Сталина, то есть первого марта пятьдесят третьего года, лесной домик, где он прятался, окружили. Отец выбежал на крыльцо в одной рубахе и кальсонах, совсем как мой дед. Он ничего не успел сделать – очередь из автомата прошила его насквозь. Мать выскочила за ним на крыльцо босая, с распущенными волосами. Ей под ноги тоже пустили очередь из автомата – для острастки. Вырванные с корнем пучки прошлогодней травы полетели ей в лицо. Ничего не замечая вокруг, мама упала на мертвое тело мужа и заголосила на чем свет стоит – восточнославянское отчаяние проявляется необыкновенно бурно.
В конце концов мне пришлось слезть сверху, потому что начали развозить ужин – в коридоре раздавался визг несмазанных колес раздаточной тележки и постукивания алюминиевых мисок. Все обитатели камеры молча воззрились на меня, а женщина-маска, кривляясь, шутовски поклонилась мне чуть ли не до земли.
– Добро пожаловать в наш гарем, – произнесла она.
Ее оттолкнула другая заключенная, необъятных размеров тетка, с устрашающе огромным бюстом и коротко стриженными волосами.
– Меня зовут Агата, – сказала она почти мужским басом. – Правильно сделала, что пристукнула своего козла. Правда, сперва надо было ему яйца отрезать!
Маска прыснула со смеху, но моя собеседница грозно смерила ее убийственным взглядом.
– Ты к нам – по-человечески, и мы с тобой будем по– человечески, – продолжала толстуха с необъятным бюстом. – Здесь можно жить, как и везде, только человеком надо быть.
– И подставлять задницу, – пропищала Маска.
Агата размахнулась и со всей сила ударила ее в лицо, так, что у той из носа хлынула кровь. Я не знала, как мне на это реагировать, и на всякий случай промолчала. На помощь мне пришла, как я сразу догадалась, Счетоводша – пожилая женщина с седыми волосами и усталым лицом.
– Вы что, хотите без ужина остаться? – вопросительно глянула она на них.
Все собрались у стола, Маска хлюпала носом. К ней подсела четвертая обитательница камеры. У нее было заурядное лицо, волосы стянуты на затылке в конский хвост. Такие незаметные, ничем не примечательные лица можно встретить на каждом шагу. Столкнувшись с ней в любом другом месте, я, вероятно, не обратила бы на нее никакого внимания. Но Иза, так про себя я стала называть Воспитательницу, выдала мне ее секрет, который, впрочем, ни для кого уже секретом не был. Она и Маска по ночам занимались сексом. Это было точное определение того, что я слышала в темноте, – время от времени отчаянный скрип нижних нар и сопровождающие его вздохи прерывались возгласами наслаждения то одной, то другой. Несмотря на то что любовь этой парочки была довольно шумной, никто на это не реагировал – на соседних верхних нарах молча лежала на боку Агата, ничем не выдавая своего присутствия. Может быть, она спала, а может, предавалась воспоминаниям о своей возлюбленной, которую недавно выпустили на волю.
Я любила свою горенку наверху. Отсюда, из тесной, набитой под завязку камеры, она казалась раем. В горенку вела витая деревянная лестница. Когда мне хотелось удрать от непрошеных гостей, я просто выскальзывала через окно на крышу, а оттуда съезжала по водосточной трубе на землю. Я всегда выбирала ту водосточную трубу, которая находилась поблизости от застекленной веранды. Тогда бабушке не было видно меня из окна кухни, а веранда заслоняла меня и от случайных прохожих. Прямо напротив, за забором, было небольшое кладбище, в центре которого стояла деревянная церквушка – памятник старины мирового значения, медленно разрушающийся от времени, как и все в той, социалистической Польше. У прихода не было денег на реконструкцию, у сельсовета – тоже. Больше никому до нее не было дела. Дом приходского священника также считался архитектурным памятником – рубленный из цельных бревен лиственницы с ломаной черепичной крышей и несколькими гонтовыми карнизами над верандами. Веранд было три, одна из них полностью застекленная – летом бабушка спала там на диване. Ее комната примыкала к кухне, и, когда огонь пылал в плите, стена сильно нагревалась. Зимой это было даже приятно, но летом, особенно в жару, в комнате царила духота, и бабушка переселялась на веранду. Мое окно выходило в сад, за деревьями которого виднелась церквушка. Зимой православная церковь была видна как на ладони, но с весны и до осени ветви деревьев заслоняли ее, так что торчала одна только круглая маковка. По периметру церковь окружала низкая ограда с чугунными остриями наверху. «Такая же старинная, как и сам храм», – не уставал повторять батюшка.
– Ты, Дарья, не вздумай забираться на ограду, – говорил он строгим голосом. – Не ровен час, живот себе проткнешь, да и оградка пострадает.
Все, что касалось церкви, было для него вопросом особой важности – я наизусть знала историю спасения святыни от уничтожения. Немцы уже отступали, советские войска были на подходе. Как известно, наблюдательный пункт обычно устраивали в зданиях, расположенных на возвышении. Таким местом в Борисовке была именно церковь, а точнее, ее звонница, которую венчала круглая маковка. Именно там немцы решили установить пулемет. Батюшка впал в отчаяние. Он знал, что, если немцы заберутся туда с пулеметом, русские церковь уничтожат – от святыни камня на камне не останется. Поэтому он со слезами на глазах начал уговаривать немецкого офицера, чтобы тот позволил в последний раз отслужить в храме молебен. Немец согласился повременить с установкой пулемета до окончания службы – во время молитвы немцы в церковь не заходили, такой у них был принцип. Наш батюшка творил молитву в течение трех дней и ночей – верующие приходили и уходили, шли домой отдохнуть, поспать, их место занимали другие, а батюшка продолжал вести службу по всем канонам. К концу он уже не стоял на ногах и продолжал свое дело, опустившись на колени, а совсем обессилев – упираясь головой в пол. В то время еще хозяйствовала его мать – моя бабушка появилась в приходском доме после ее смерти. Но бабушка тоже могла подтвердить, что именно так все и было – они с сестрой были участницами той службы, вероятно самой длинной в истории нашей деревенской церкви. Немцы стояли снаружи и ждали, офицер проявлял нетерпение, нервничал, но в церковь так и не вошел. А рано утром на четвертый день немцам пришлось убраться – появились русские. Таким вот образом храм и уцелел.
Маска и ее подружка насытились друг другом, и одна из них громко засопела. Похрапывала и Счетоводша, только Агата вела себя тихо. Слишком уж тихо для сна. И я не ошиблась. Минуту спустя послышалось подозрительное хлюпанье носом. Она плакала.

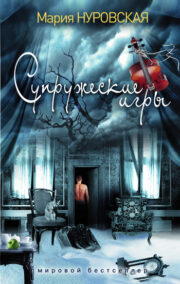
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.