Дернбург со своими спутниками выбрал кратчайший путь по той же узенькой боковой дорожке, по которой пришел на заводы и которой не было видно с террасы. Дорогой Эгберт пришел в себя от боли, которую причиняло ему движение. Его первый вопрос был о Ландсфельде; Гагенбах и ему сказал, что тому не грозит ни малейшая опасность; Эгберт с облегчением вздохнул.
В первое мгновение Майя увидела только отца и порывисто бросилась ему на грудь.
— Ты жив, папа, ты спасся! Слава Богу, теперь все будет хорошо!
— Да, спасся, но вот какой ценой, — тихо сказал Дернбург, указывая назад.
Девушка только теперь заметила раненого и вскрикнула от ужаса.
— Тише, дитя мое, — остановил ее Дернбург. — Я не хотел пугать вас. Где Цецилия?
— На террасе. Я сейчас скажу ей; она чуть не умирает от страха за тебя, — прошептала Майя, испуганно глядя на товарища детства, который был похож на умирающего, и поспешила к Цецилии.
Дернбург велел отнести Эгберта в собственную спальню и положить на кровать.
Доктор хлопотал возле раненого и отдавал приказания прибежавшей прислуге; вдруг дверь порывисто распахнулась, и в ней показалась Цецилия в сопровождении Майи; не обращая внимания на присутствующих, даже не взглянув на них, она кинулась к постели раненого и опустилась на колени.
— Эгберт, ты обещал мне жить! — в отчаянии вскрикнула она. — Ты все-таки искал смерти!
Дернбург остановился, пораженный. Никогда в его мыслях не зарождалось даже малейшее подозрение о существовании этой любви; теперь одно мгновение выдало все.
— Я не хотел смерти, Цецилия, право, не хотел, — тихо ответил Эгберт, — но спасти его иначе не было возможности.
Его глаза обратились на Дернбурга, растерянно смотревшего то на одного, то на другую.
— Так вот в каких вы отношениях! — медленно проговорил он.
Цецилия молчала, обеими руками держа за руку любимого человека, как бы боясь, чтобы их не разлучили. Эгберт пытался что-то сказать, но Дернбург не позволил ему говорить.
— Молчи, Эгберт, — серьезно сказал он. — Я знаю, что ты с нежностью относился к невесте Эриха, чтобы не запятнать ее чести, тебе нет надобности уверять меня в этом, а после его смерти ты сегодня впервые в Оденсберге. Бедный мой мальчик! Этот приезд был роковым для тебя; ты заплатил за него своей кровью!
— Но эта кровь освободила меня от цепей партийного рабства! — Эгберт попытался приподняться. — Никто из вас не подозревает, как тяжело мне было носить их. Теперь они разорваны, я свободен!
Он обессиленно упал на подушки. Доктор, не скрывая от раненого, насколько опасно его положение, решительно запретил ему говорить и волноваться.
Дернбург взглянул на невестку, умоляюще смотревшую на него; он понял ее немую просьбу.
— Эгберту нужен полный покой и тщательный уход, — серьезно сказал он. — Я поручаю его тебе, Цецилия, ты будешь здесь самой лучшей сиделкой.
Он еще раз нагнулся к раненому, обменялся несколькими тихими словами с доктором и направился в кабинет; Майя, до сих пор безмолвно стоявшая у двери, последовала за отцом, но приблизилась к нему так робко и нерешительно, будто должна была признать собственную вину.
— Папа, мне надо сказать тебе кое-что, — потупившись прошептала она. — Я знаю, каким тяжелым был для тебя сегодняшний день… но я не могу откладывать; в парке ждут моего и твоего решения, я должна дать ответ. Ты согласен выслушать меня?
Дернбург обернулся. Да, правда, сегодня он пережил много нелегких минут, но теперь ему предстояло самое тяжелое. Он протянул к своей любимице руки и, прижимая ее к груди, сказал прерывающимся голосом:
— Моя малютка Майя! Мое бедное, бедное дитя!
***
Наступила темная беспокойная ночь; небо было покрыто тяжелыми тучами. На оденсбергских заводах стояла тишина. Не было надобности ни в каких особенных мерах, не пришлось даже требовать, чтобы рабочие разошлись, по домам. После того, как их депутат свалил с ног одного из руководителей беспорядков и сам пострадал от ножа другого, ими овладело какое-то оцепенение; они чувствовали, что произошло нечто серьезное, избегали Фальнера; когда же стало известно, что Ландсфельд, в самом деле очнувшийся через полчаса, пешком ушел из Оденсберга, настроение оденсбергцев окончательно изменилось; послышались горькие жалобы и недовольство Ландсфельдом.
Среди ночной тьмы и свиста бури перед господским домом одиноко стоял барон Вильденроде. В окнах виднелся слабый свет; это была комната, где лежал Эгберт. Никто из обитателей дома не спал в эту ночь. Барон не знал ничего о последних событиях; он слышал гул, доносившийся с заводов, когда уходил от Розового озера, и знал, чего ожидали от этого вечера; но какое ему было дело теперь до Оденсберга и вообще до всего на свете!
Оскар готовился к последнему шагу. Он знал, что не должен больше видеть невесту, но непреодолимое стремление еще раз побыть вблизи нее влекло его к месту, где находилось единственное существо на земле, которое он действительно любил. Ради Майи он принес себя в жертву, и даже остаток расчета в его любви исчез; эта любовь была единственным чистым чувством в его запятнанной, загубленной жизни, с которой он собирался свести счеты при помощи пули.
Вильденроде вспомнил первый вечер, проведенный им в Оденсберге. Он стоял тогда наверху у окна, и его голова была полна честолюбивых планов, а в сердце только зарождалась симпатия к милому ребенку, с именем которого было связано так страстно желаемое им богатство. Тогда он дал себе клятву стать со временем хозяином и повелителем этого мира и, предвкушая победу, гордо смотрел на заводы, из труб которых летели снопы искр; теперь жизнь в них замерла.
Только там, где находились прокатные мастерские, мерцал слабый, колеблющийся свет, постепенно становившийся все ярче. Оскар взглянул на него сначала рассеянно, потом пристально. Вот свет исчез, но затем вспыхнул снова; вот он мелькнул в другом месте, а затем вдруг точно молния озарила мрак ночи — пламя высоко взвилось к небу, и при его свете стало видно, что все окрестности окутаны густыми клубами дыма.
Вильденроде вздрогнул и, бросившись к дому, стал стучать в окно привратника.
— На заводах пожар! Разбудите господина Дернбурга! Я побегу туда!
— Пожар в такую ветреную ночь? Господи, спаси нас и помилуй! — послышался в ответ испуганный голос привратника, но Оскар уже бежал к заводам.
Пожар бушевал все сильнее. Обычно на заводах и ночью работали сотни людей; сегодня же там оставались лишь сторожа, да и те спали.
Вильденроде прежде всего кинулся к домику старика Мертенса и разбудил его. Ударили в набат, и через несколько минут собралось с десяток человек; глухой рев пламени был слышен уже совершенно ясно.
В Оденсберге пожарное дело было поставлено превосходно, потому что Дернбург организовал из своих рабочих добровольную пожарную команду и прекрасно обучил ее; но сегодня обычный порядок был нарушен, рабочие разошлись по своим довольно отдаленным от заводов домам и едва ли можно было ждать от них помощи.
Появился сам Дернбург, а с ним прибежали некоторые из служащих, жилища которых находились поблизости. Вильденроде вдруг очутился лицом к лицу с человеком, который всего несколько часов назад признавал за ним права сына, а теперь уже знал ужасную правду; Дернбург тоже невольно попятился, увидев барона, который, по его мнению, в эту минуту должен был находиться уже далеко отсюда. Но теперь не время было объясняться, и Оскар, решительно подойдя к нему, произнес:
— Я первый заметил пожар и сейчас же велел ударить в набат. По-видимому, горит в прокатных мастерских.
— Да, в прокатных, — согласился Дернбург, — но причиной пожара не может быть неосторожность, работы прекращены там еще в полдень. Это поджог.
Окружающие согласились с его мнением. Но теперь не время было, по мнению Вильденроде, заниматься пустыми разговорами.
— Как бы то ни было, — воскликнул он, — мы должны проникнуть к месту пожара! При таком ветре всем заводам грозит большая опасность.
— При таком ветре все сгорит, — мрачно произнес Дернбург. — У нас нет даже средств для тушения пожара.
— А насосы! Рабочие… — заметил старый Мертенс, но горький смех хозяина не дал ему договорить.
— Мои рабочие? Они дадут сгореть всему, что только может гореть. Зовите их сколько угодно, ни один не придет! Ведь это мои заводы. Ни один из рабочих и пальцем не шевельнет.
Как будто в ответ на его слова послышались голоса и показались факелы на проходных заводов; появился отряд рабочих, шедших в пожарных касках и куртках, а сзади гремели насосы; через пять минут прибыл второй отряд, затем третий, четвертый; сигналы раздавались со всех сторон, вся оденсбергская долина ожила, всюду заблестели огоньки. Заводы наполнились людьми, все пришли и были готовы работать.
Дернбург вначале точно окаменел, глядя на пришедших; но когда увидел, что из темноты выступает один отряд за другим, что эти люди спешат, как будто это касается спасения их собственной жизни, глубокий вздох вырвался из его груди: владелец Оденсберга выпрямился, будто с его плеч свалилась гора, и воскликнул:
— Ну, если вы так хотите, — вперед! Туда, где горит!
Но пожар уже успел разгореться; прокатные мастерские были объяты пламенем, и пожарные тщетно пытались проникнуть внутрь. Дернбург лично руководил работами, и рабочие повиновались ему так же беспрекословно, как и раньше.
Оскар носился как угорелый. Он не спрашивал, признается ли еще за ним право принимать участие в общем деле, а просто взялся за него. Он появлялся везде, где была необходима помощь. Пожарные бесстрашно боролись с пламенем, насосы безостановочно качали воду, но огонь приобрел себе могучего помощника в свирепствующей буре и в союзе с ней насмехался над всеми усилиями людей. Огненные языки вырывались из окон зданий, лизали стены и, рассыпаясь искрами, вылетали из-под крыш, ветер перенес огонь на другие крыши; горящие головни, подхваченные бурей, летали по воздуху, неся с собой беду, и, падая, повсюду поджигали окружающие постройки. Отряды людей приходилось посылать то туда то сюда.
Вильденроде только что вернулся с одного из таких мест, где тушили пожар под его руководством, к месту очага пожара, где безотлучно находился Дернбург, совещаясь с главным инженером. Тот стоял перед ним с растерянным лицом и говорил:
— Мы не совладаем с огнем. Посмотрите, он грозит уже захватить литейные мастерские, а если они загорятся, ему будет открыт путь куда угодно. Одно средство, может быть, еще и есть, но ведь вы не соглашаетесь. Если бы попытаться открыть резервуар радефельдского водопровода…
— Нет, никогда, это будет стоить человеческой жизни! — протестовал Дернбург. — Может быть, и нашлись бы охотники попытаться, но я не стану жертвовать людьми; пусть лучше все заводы сгорят.
Он подошел к насосам, отдавая приказания, а Вильденроде, слышавший их разговор, обратился к инженеру:
— Что вы сказали о радефельдском водопроводе?
— Он примыкает непосредственно к прокатным мастерским, — ответил тот. — Если бы открыть главную задвижку водоема, то пожар, пожалуй, можно было бы затушить. Но мы не имеем туда доступа: труба находится…
— Знаю, — перебил Вильденроде, — я присутствовал во время испытания и видел, как ее открывают. Вы говорите, пройти туда невозможно?
Инженер пожал плечами и указал на пожар.
— Теперь это, пожалуй, более возможно; насосами ликвидирован очаг, по крайней мере, на короткое время, но господин Дернбург прав — попытка стоила бы человеческой жизни. Кто решится пройти между горящими стенами, которые каждую минуту могут обрушиться? А если бы и нашлись желающие и если бы им удалось открыть задвижку и направить воду на огонь, то как они вернулись бы? Когда вода прорвется, их задушит паром, и ни один не останется в живых.
— Все дело в том, чтобы один добрался туда живым, — пробормотал Оскар, глядя на бушующее пламя.
Инженер озадаченно взглянул на него, но прежде чем собрался ответить, подошел Дернбург.
— Примите там команду, — приказал он, — Виннинг больше не в силах.
Инженер поспешно ушел, а Дернбург окинул барона мрачным взглядом.
— Зачем вы здесь? — спросил он, понижая голос. — Здесь достаточно рабочих рук, мы не нуждаемся в вашей помощи.
— Может быть, и нуждаетесь! — странно улыбаясь, ответил Вильденроде.
Дернбург подошел к нему ближе.
— Я не хотел позорить вас перед своими служащими и рабочими, но теперь говорю вам, что здесь вам больше нет места. Уходите!
Вильденроде мужественно выдержал грозный взгляд Дернбурга и сказал медленно и серьезно.
— Я уйду. Поклонитесь от меня Майе. Может быть, вы позволите ей хоть… поплакать обо мне!

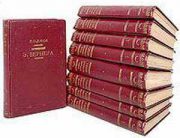
"Своей дорогой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Своей дорогой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Своей дорогой" друзьям в соцсетях.