Он быстро повернулся и исчез в толпе.
Оденсберг пережил ужасную ночь. Буря гнала облака, окрашенные пламенем в кровавый цвет, толпа суетилась, оглушительно крича, насосы шипели — все это представляло жуткую картину.
Вдруг из середины пожарища поднялся громадный клуб пара; он все рос, и в то же время слышалось странное шипение и гул. Пламя уже не взвивалось так высоко как до сих пор; оно потухало, уступая какой-то таинственной силе, а облако пара и гул все росли. Окружающие не могли понять, что происходит, и вслух высказывали всевозможные предположения; Дернбург первый нашел объяснение загадки.
— Открыт радефельдский водоем! — крикнул он. — Вода прорвалась. Вероятно, от огня лопнула главная труба или задвижка. Как бы то ни было, это спасет нас!
Все, затаив дыхание, следили за борьбой двух враждебных стихий, но скоро вода победила; правда, крыша мастерских еще горела, но потушить ее, когда внутреннее море огня погасло, было уже возможно. Насосы заработали с новой силой. Часть стен рухнула, и здание превратилось в груду развалин; это устранило опасность, грозившую окружающим постройкам, и пожар уже не мог распространяться дальше.
— Помощь пришла кстати, — сказал Дернбург, — а то, что водоем открылся в самый критический момент, не простая случайность…
— Боюсь, что это дело человеческих рук, — тихо проговорил главный инженер.
— Что вы хотите сказать?
— Барона Вильденроде нигде не видно. Он только что говорил со мной о возможности открыть водоем и сделал при этом одно странное замечание, которое даже испугало меня; несколько минут спустя я видел, как он быстро шел в том направлении и там исчез. Здесь не было простой случайности.
Дернбург побледнел; ему вдруг стали ясны последние слова Оскара, и он понял все.
— Господи! — воскликнул он. — В таком случае мы должны проникнуть туда, должны хоть попробовать…
— Это невозможно! — перебил директор. — Под этими дымящимися развалинами не спасется ни одно живое существо.
Он был прав, и Дернбург видел это; глубоко потрясенный, он закрыл глаза рукой. Для него все было ясно: человек, желавший во что бы то ни стало получить Оденсберг в свое владение, пожертвовал собой, чтобы спасти его.
Много часов пришлось еще работать оденсбергцам. То здесь, то там снова вспыхивал огонь; надо было изолировать место пожара и закрыть трубу радефельдского водоема, из которого все еще текла вода.
Наступил день, и наконец появилась возможность отпустить рабочих, оставив лишь сторожей. Все они проявили удивительное мужество и усердие. Теперь эти люди с закопченными лицами, в мокрой одежде, истощенные продолжительной и тяжелой работой, ждали своего хозяина; все взоры были безмолвно и вопросительно устремлены на него, когда он подошел к ним. В его голосе слышалось глубокое волнение, когда он начал говорить.
— Благодарю вас, дети! Того, что вы сделали для меня в эту ночь, я никогда не забуду. Вы обещали бросить работу, и я сказал, что не позволю вам снова переступить проходную; но вы все-таки работали для меня и моего Оденсберга, а потому, я думаю, — он вдруг протянул обе руки седому старику-рабочему, стоявшему возле него, — что мы с вами забудем все неприятности и будем продолжать работать вместе, как уже работали тридцать лет!
Крики радости, раздавшиеся со всех сторон, положили конец оденсбергскому мятежу.
27
Больше двух лет прошло с той бурной ночи, когда на оденсбергских заводах свирепствовал пожар, но эта буря и пожар, грозившие все уничтожить, стали источником новой жизни и деятельности.
Тяжелые события мало-помалу начали забываться, хотя долго еще было заметно их влияние. На следующий день после пожара был найден труп барона Вильденроде. Его геройский поступок всюду вызывал удивление и восторг; только Дернбург, Эгберт и немногие, посвященные в тайну, знали, что этой жертвой барон искупил бесчестную, запятнанную жизнь, для всех же других память барона, останки которого покоились под шумящими елями оденсбергского парка, была чиста и непорочна.
По всеобщему убеждению причиной пожара был поджог, но доказательств найдено не было, да их и не хотели искать. Фальнер, на которого падало подозрение, уехал из Германии, чтобы избежать суда, грозившего ему за нападение на Рунека. Так как последние события и без того уже обратили на себя внимание общества, то замешанные в них лица не пожелали еще больше выставлять себя напоказ судебному расследованию. В этом вопросе Дернбург был одинакового мнения со своими противниками и сделал все от него зависящее, чтобы предать прошлое забвению; он не хотел возмущать только что установившийся в Оденсберге мир, возбуждая в рабочих горькие воспоминания.
Еще не оправившись от раны, Рунек послал руководителю партии заявление, что отказывается от звания депутата. Даже без тяжелой раны, препятствовавшей ему в течение нескольких месяцев заниматься какой-либо серьезной деятельностью, такой шаг с его стороны был неизбежен; связь между ним и его бывшими товарищами уже давно была лишь формальной, теперь же она окончательно прервалась. Исход новых выборов нетрудно было предсказать: только один человек мог оспаривать звание депутата у хозяина Оденсберга, а теперь этот человек добровольно устранился. Эбергард Дернбург был избран подавляющим большинством голосов; на этот раз Оденсберг подал голоса за него; примирение состоялось.
После выздоровления Эгберт уехал из Оденсберга и долго не появлялся. Он так же как и Дернбург чувствовал, что будущее, на которое они оба надеялись, нельзя было поспешно соединять с прошлым, надо было дать время закрыться внутренним ранам. Рунек долго путешествовал и целый год прожил в Америке; там он закончил образование, начатое еще в Англии. Наконец он вернулся в Оденсберг, обретя долгожданное счастье. Недолго пробыв женихом, он обвенчался с Цецилией; свадьба была самая скромная.
В господском доме царило веселое, праздничное оживление; ожидали молодую чету, возвращавшуюся после свадебного путешествия. Леони Гагенбах, продолжавшая и после замужества поддерживать близкие отношения с домом Дернбурга, заканчивала приготовления к встрече. Из болезненной, нервной, отцветающей девушки вышла веселая и привлекательная женщина; доктор и в качестве супруга не потерял авторитета врача — он полностью отучил жену от ненавистных нервов.
Леони уже закончила свои дела, когда вошел ее муж. И на него брак оказал благотворное влияние; он выглядел довольным, его речь и манеры изменились; видно было, что он серьезно захотел «стать человеком».
— Я зашел только на минутку, чтобы сказать тебе, Леони, что мне надо еще сходить к одному больному; но это не займет много времени, и к приезду гостей я обязательно буду здесь.
— Они ведь приедут только к двум, — заметила Леони. — Но еще один вопрос, милый Гуго: ты подумал о деле Дагоберта?
Доктор сердито нахмурился.
— Тут нечего думать! Сохрани меня, Бог, послать мальчишке триста марок, которые, по его словам, ему так необходимы. Пусть обходится тем, что я раз и навсегда назначил ему.
— Но ведь эта сумма не такая уж большая, и вообще тебе нечего жаловаться на Дагоберта — работает он прилежно, пишет нам регулярно…
— И воспевает тебя в стихах и в прозе тоже прилежно, — закончил Гагенбах. — Положим, к такому глупому малому ни один разумный человек ревновать не станет, хотя он, узнав о нашей помолвке, и осмелился написать мне, что я изменнически нанес смертельный удар его сердцу. Впрочем, этот удар нисколько не мешает ему при каждом удобном случае прятаться за спину своей тетушки, когда он желает получить что-либо от меня, изменника, а она, тетушка, к сожалению, всегда на его стороне. Но в данном случае и это не поможет, Дагоберт не получит денег, и хватит об этом!
Леони не противоречила; она только снисходительно улыбнулась и переменила тему разговора.
— Сегодня мы будем в самом тесном семейном кругу, — заметила она, — приглашен только граф Экардштейн.
— Надеюсь, это означает, что у нас в доме скоро опять появится невеста и что вскоре в замок Экардштейн войдет молодая графиня?
Леони с сомнением покачала головой.
— Ну, до этого, кажется, еще далеко. Дернбург желает этого несомненно, но Майя все еще не решается; кто знает, каков будет ее ответ, если граф вздумает объясниться.
— Но не может же она вечно грустить о женихе! Ведь она была тогда еще почти ребенком.
— И все-таки его смерть чуть не стоила ей жизни.
— Да, ужасное было время! — со вздохом сказал Гагенбах. — С одной стороны Эгберт, находившийся между жизнью и смертью, с другой — Майя, также собравшаяся умереть, а между ними Цецилия, преспокойно объявившая мне однажды, когда Рунеку было плохо, что если мне не удастся спасти ее Эгберта, то и она не желает жить. Невеселое время пережили мы женихом и невестой! Слава Богу, что брак лучше. Однако пора! Я еще зайду домой; нет ли у тебя какого поручения?
— Одно, маленькое; ты ведь посылаешь кучера на станцию, так пусть он захватит на почту письмо с деньгами.
— С какими деньгами? — подозрительно спросил доктор.
— С тремястами марками для Дагоберта. Я уже приготовила письмо — оно лежит на твоем столе; тебе остается только дать деньги, милый Гуго.
— Леони, что это тебе вздумалось? Я ведь сказал тебе и повторяю, что…
Но повторить ему не удалось, потому что жена перебила его.
— Я знаю, Гуго! Ты представляешься суровым, а на деле ты сама доброта. Ведь ты давно решил послать бедному мальчику деньги…
— И не думал! — в ярости крикнул доктор.
— Нет, думал! — ответила Леони так решительно, что протестовать было совершенно невозможно. — Ты просто боишься подорвать свой авторитет и в этом, конечно, прав, как и всегда. Поэтому-то я и избавила тебя от необходимости писать Дагоберту; я сделала это единственно ради тебя; ты сам это видишь, милый Гуго.
«Милый Гуго» уже многое научился видеть за время своей супружеской жизни. Он никогда не слышал противоречия, и все делалось исключительно по своей воле, — жена ежедневно повторяла ему это, да и сам он почти всегда был того же мнения, но в Оденсберге думали иначе и утверждали, что всем в доме заправляет докторша. Как бы то ни было, а письмо с тремястами марками было отослано… через час.
В гостиной у окна сидела Майя; у ее ног лежал Пук, который стал более спокойным, правда, с ним не играли как прежде; конечно, его молодая хозяйка ласкала его, но веселые игры с ним прекратились уже два года тому назад. Вообще, она не была больше «маленькой Майей», ребячески прелестным существом, резвым, смеющимся, с лучезарными глазками. Ребенок превратился в тихую, серьезную девушку; ее карие глаза были омрачены глубокой тенью, указывавшей на горе, с которым она все еще не могла справиться.
Вокруг было тихо. Майя задумчиво глядела в окно на светлый летний день. В комнату вошел отец. Его волосы стали совсем белыми, но в остальном он был прежним.
— Ты смотришь, не видно ли экипажа? — спросил он.
— Нет, папа, еще рано, Эгберт и Цецилия будут не раньше чем через час, но так как все приготовления к их встрече уже окончены, то…
— Тем лучше; значит у нас остается час исключительно для нашего гостя: приехал Экардштейн; он в моем кабинете.
— Да? Почему же он не пришел с тобой?
— Потому что нашел необходимым послать меня вперед в качестве парламентера. У нас с ним был длинный и серьезный разговор; должен ли я сообщить тебе его содержание или ты догадываешься?
Майя встала. Она побледнела и с мольбой взглянула на отца.
— Папа, ты не мог бы избавить меня от этого?
— Нет, дитя мое, — серьезно сказал Дернбург. — Виктор на этот раз хочет добиться ответа, и ты должна будешь выслушать его. Он просил моего заступничества, и я обещал, потому что должен загладить свою вину перед ним: он еще три года тому назад домогался твоей руки, хотя до открытого предложения дело не дошло; я увидел в просьбе бедняка-офицера лишь расчет и дал ему очень горько почувствовать это; но он доказал, что его любовь — настоящая, и я очень охотно отдал бы в его руки счастье моей Майи.
— Я хотела бы остаться с тобой, папа, — ответила девушка, почти со страхом прильнув к его груди. — Разве ты не хочешь, чтобы я осталась с тобой.
— Дитя мое, мы ведь не расстанемся, если ты станешь женой Виктора. Тебе известно, что заставило его до сих пор избегать Экардштейна; получив твое согласие, он сразу выйдет в отставку и займется имением. Тогда мы будем вместе; ведь Экардштейн так близко.
— Я не могу! — горячо воскликнула Майя. — Оскар приковал меня к себе живой и мертвый. Я много раз с болью в сердце переживала умоляющий взгляд Виктора, но я не смела понять его немую просьбу. Я не могу быть счастливой с другим!

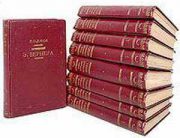
"Своей дорогой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Своей дорогой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Своей дорогой" друзьям в соцсетях.