Все отлично видели это странное, непостижимое шествие; все наблюдали его таинственные подробности, и об этом событии сохранилось документальное подтверждение многих современников и в том числе академика Шретера. Молва гласит, что сама императрица Анна Иоанновна видела таинственные и роскошные похороны, но это предположение сохранилось только в виде предания.
Между тем мрачная процессия, достигнув здания дворца, вошла в его ворота со стороны адмиралтейства и, пройдя двор, вышла в противоположные ворота со стороны Невы. Отсюда, по наблюдению множества заинтересованных лиц, таинственная похоронная процессия двинулась вдоль по берегу и бесследно исчезла по направлению к нынешнему Троицкому мосту.
На другой день, когда пурга унялась и вода, хлынувшая на улицы, несколько спала, все бросились разузнавать о том, кого могли хоронить с такою помпой в такой неурочный час. Однако, несмотря на самые тщательные розыски, ничего узнать не удалось. Никто из богатых и знатных лиц не умирал, да и не было нигде никаких приготовлений к процессии.
Мрачный слух об этом странном и таинственном событии смутил весь Петербург и, по свидетельству современников, сильно повлиял на суеверную и уже сильно ослабевшую императрицу. Она увидела в этом таинственном явлении предсказание ее близкой кончины и стала еще трусливее, еще сильнее волновалась и еще меньше могла выносить одиночество. Анна Иоанновна уже не могла проводить ночи одна: перед нею вставал какой-то ей одной видимый призрак, и слышались ей одной доступные стоны.
Бирон, торопя свадьбу принцессы Анны Леопольдовны, в то же время надеялся на эту свадьбу, как на средство разогнать тоску и панический страх императрицы. Он думал, что, отдавшись заботам о грядущих празднествах, Анна Иоанновна забудется и несколько развлечется и что суета, невольно вызванная готовившимися празднествами, поможет рассеять мрачное настроение государыни.
В начале весны было послано к венскому двору извещение о том, чтобы готовились официальные сваты, по тогдашним обычаям необходимые при заключении браков между владетельными лицами. Из Вены сначала было дано знать, что официальные сваты будут своевременно назначены и высланы в Россию, но затем в венском кабинете последовало изменение и на резидент-министра маркиза Ботта, состоявшего при петербургском дворе, были возложены роли и свата, и чрезвычайного посланника.
Принцесса Анна Леопольдовна, узнав о том, что венский двор не желает даже прислать сватов на ее свадьбу и что вместо официального въезда чрезвычайного посла будет проделана комедия ложного въезда маркиза Ботта, который проедет только от заставы до заставы, сильно возмутилась этим и горячо высказала свою обиду императрице.
— Стало быть, хорош жених, — со слезами восклицала она, — если и приличным сватовством не удостаивает его венский двор, затеявший всю эту несчастную свадьбу! И неужели вы, ваше величество, согласитесь проделать такую оскорбительную для меня и для вас комедию?..
Императрица в душе была согласна с племянницей, но Бирон был на стороне политической комедии, и его мнение, как всегда, восторжествовало.
Принцесса Анна, по настоящему ли своему душевному движению, или назло императрице, против которой она питала чувство непримиримой досады, настаивала на том, чтобы двор ранней весной переехал в Сарынь. Она знала, что напоминание о Сарыни было неприятно ее державной тетке, и сама, раздосадованная постоянным напоминанием о ненавистной свадьбе, не прочь была и другим доставить неприятную минуту.
Императрица, само собой разумеется, наотрез отвергла всякую мысль о посещении Сарыни, и в 1739 году, то есть в год свадьбы принцессы Анны Леопольдовны, двор все лето провел в Петербурге.
На 29 июня, день храмового праздника всей северной столицы, был назначен мнимо-официальный въезд венского посла в Петербург для подписания свадебного контракта.
Принцесса Анна с чувством глубокого негодования и отчасти даже оскорбления следила за тем, как маркиз Ботта с вечера переехал в здание Александро-Невской лавры, чтобы оттуда въехать, якобы из-за границы, в Петербург. Эта комедия совершалась на глазах у всех, во многих вызывала чувство искреннего глумления и осуждения, и принцесса со слезами упрекала Бирона, по инициативе которого совершалась вся эта, по ее мнению, «глупая комедия».
Утром 29 июня маркиз совершил свой мнимый торжественный въезд в столицу, а уже к вечеру герольды в полном парадном костюме объявили на всех площадях о помолвке благочестивейшей великой княжны Анны Леопольдовны с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским. Принцесса горько плакала, а ее жених, как будто для контраста, глупо и неустанно улыбался, по-детски любуясь сделанными ему в то утро богатыми подарками, состоявшими из часов, перстней и табакерок, осыпанных драгоценными камнями.
Единственным утешением принцессы во всех ее невзгодах было присутствие ее любимой фрейлины Юлианы, или Юлии Менгден, веселый и общительный нрав которой мирился со всякой обстановкой и создавал ей со всех сторон друзей и доброжелателей.
В ночь, следовавшую за объявлением о помолвке, принцесса Анна настояла на том, чтобы Юлиана легла в ее комнате, и императрица на этот раз не стала противиться ее фантазии.
Приятельницы проговорили всю ночь. Много воспоминаний было посвящено отсутствующему графу Линару; много горьких и не совсем справедливых насмешек выпало на долю некрасивого и неловкого жениха, и только на заре приятельницы заснули, обменявшись словом подробно сообщить одна другой о том, что каждая из них увидит во сне.
Юлиана еще крепко спала, когда принцесса, в испуге вскочившая с постели, стала будить ее.
— Что с тобой? Что случилось? — протирая глаза, спросила хорошенькая фрейлина, в последнее время почти всегда бывшая с принцессой на «ты».
Анна Леопольдовна и раньше настаивала на этой короткости, но Юлия отклоняла ее. Теперь же, ясно и подробно читая в сердце принцессы, как бы в своем собственном, Юлиана чувствовала, что никакие законы придворного этикета не могут разъединить их и помешать их близкой и тесной дружбе.
— Что с тобой? — встревоженным голосом повторяла она, видя, что принцесса, вся бледная, продолжает дрожать, плотно прижавшись к ней и пряча на ее груди свое побледневшее лицо.
— Ах, я так напугана!.. Это так страшно!
— Да что страшно-то? Про что ты говоришь?
— Ты… ничего не видела?
— Где? Когда?
— Да тут, сейчас!..
— Ровно ничего… Что могла я видеть, когда я спала крепким сном?.. Да и ты тоже, кажется?
— Нет, я не спала… это был не сон!
— Трусиха!.. Сон за действительность приняла! Ну, расскажи же, если уж разбудила меня без толка… Ведь мы дали друг другу слово рассказать свои сны.
— Нет, я не могу… это был не сон! Уверяю тебя, что это был не сон!
— Ну, расскажи, трусиха!.. Мы вдвоем обсудим. Что за видение было пред свадьбой?
— Да, именно это было видение. Я так живо, так явственно видела ее…
— Да кого?
— Мою бывшую камер-юнгферу… Регину Альтан!
— Ах, эту немку, которая пропала?
— Она не пропала… она… убита!.. — вся дрожа от страха и с трудом выговаривая слова, произнесла принцесса.
Юлиана, в свою очередь, вздрогнула.
— Полно говорить вздор! — сказала она. — Кто тебе внушает и рассказывает все это?
— Мне никто не внушает этого… я и сама не думала о ней… Я никогда, положительно никогда не вспоминала о ней.
— И хорошо делала! Регина наверно просто убежала со службы к себе на родину… Не стоило и вспоминать о ней.
— Нет, не убежала она, а убита… и стоит там убитая до сих пор!.. Она ждет погребения… просит погребения и знает, что погребена будет не раньше, как через шесть царствований!.. Она стоит там… в Сарыни… в этой ужасной Сарыни, которой тетушка так странно боится и избегает.
— Что за вздор городишь, Анна! Покойница, больше года не погребенная, среди наполовину обитаемого дворца? Ведь и в отсутствие двора там кто-нибудь да живет? И покойница, которая, по твоим словам, даже не лежит, как все покойники мира, а «стоит»… Ты положительно бредишь наяву… Я советую тебе лечь и заснуть покрепче, иначе ты и под венцом что-нибудь не то скажешь и сделаешь.
— Нет, Юлия, ты не шути этим! Регина именно сказала мне, что она «стоит» во дворце и будет стоять еще пять царствований и только на шестом найдет покой своим костям в христианской могиле.
— Долго же ей, бедной, стоять придется! Устанет, сердечная!.. Русские цари долговечны; пять русских царствований перестоять — не шутка!
Принцесса рукой зажала рот своей приятельнице и прошептала, вне себя от страха:
— Замолчи Юлия, ради Бога, замолчи! Она здесь близко… она покоя себе не знает… Ей трудно… душно без могилы!..
— Да перестань же, говорю тебе! Что ты на себя напускаешь? — почти крикнула на нее Юлиана. — Право, я, как только встану, за доктором пошлю. Только не за немцем — он ничего не понимает, — а за этим испанцем.
— Португалец он, а не испанец.
— Не все ли равно?.. Колдун он, говорят… Вот тебе такого именно и нужно!.. Отчитать тебя, ей Богу! Выдумала своей какой-то горничной с того света бояться?.. Во-первых, и не умерла Регина, а жива себе живехонька и где-нибудь в своей деревне чухонской кур разводит; а если и умерла, так опять-таки на каком-нибудь чухонском кладбище лежит себе смирнехонько… Она и при жизни ничего не значила и не стоила, и после смерти ей никакого значения придавать не следует!
Принцесса внимательно слушала подругу и затем задумчиво произнесла:
— Все это так, быть может, ты и права, и действительно мне не надо так распускать свои нервы, но только этот сон накануне моей свадьбы не к добру и ничего хорошего не сулит мне. Ох, с каким тяжелым предчувствием я под венец иду… Попомни мое слово: немного счастья мне суждено в жизни…
— Тебе-то немного?.. Да за то, чтобы один год прожить на твоем месте, другие бы отдали свою жизнь.
— И пусть их отдают, а мое сердце недоброе чует, и придет время, когда ты эти мои слова вспомнишь!
XXIII
РОКОВАЯ ТАЙНА
Свадьба принцессы Анны Леопольдовны была отпразднована пышно и торжественно и вызвала целый ряд празднеств; однако количество последних несколько уменьшилось благодаря легкому недомоганию «молодой» и той нескрываемой грусти, которую она даже не думала скрывать. Ее отвращение к супругу росло с каждым днем, и над этим были бессильны и увещания самой императрицы, которая обыкновенно имела неотразимое влияние на племянницу.
Впрочем, против антипатии Анны Леопольдовны к принцу Антону и государыня ничего не имела, сознавая, что эта антипатия достигла таких размеров, с которыми бороться почти невозможно.
Юлиана Менгден, долго и напрасно уговаривавшая свою подругу подчиниться выпавшему ей на долю супружеству, нашла средство отчасти примирить «молодую» с условиями ее новой жизни. Она постоянно внушала ей, что состоявшееся замужество приблизило ее к моменту свидания с горячо любимым ею графом Линаром и что то, что было невозможно и недоступно для незамужней принцессы, делалось совершенно доступным замужней великой княгине.
— Да! Но мой ужасный муж… его позорные, ненавистные мне ласки! — возмущалась Анна Леопольдовна.
— Выноси их, как путь к другим, столь же нежным, но более желанным ласкам! — смеясь увещевала ее всегда веселая Юлиана.
Бирон, с момента супружества принцессы ставший к ней в совершенно иные, чем прежде, отношения, заметно заискивал ее благоволения и ладил с принцем Антоном. Впрочем, поладить с последним было не особенно трудно. Он был человек кроткий и покладистый и шел навстречу ко всякому доброму и душевному отношению. Правда, ума он был очень ограниченного, но при желании принцесса могла бы найти в браке с ним если не восторженное счастье, к которому манило ее воображение, то полный покой и душевный мир.
Однако Анна Леопольдовна была натура требовательная, страстная и не любила подчиняться ни в чем ни власти и влиянию окружающих, но общественному мнению вообще.
Она почти не следовала современным модам, тяготилась сложными туалетами, которые, будучи завезены в Россию из Франции, властно царили среди русского общества, неохотно ездила на балы, почти совсем не танцевала и, глядя на придворных кавалеров, с грустью вспоминала красавца Морица Линара, танцевавшего так, как никто больше уже не танцевал на придворных балах.
Пробовал танцевать и «молодой», но это выходило у него так смешно и неуклюже, что сама императрица, всячески отстаивавшая его, заметила ему, что ему лучше отказаться от танцев. Принц Антон молча покорился этому, как умел покоряться всему — без сожаления и без угодливой покорности, а просто потому, что не умел ни с кем и ни с чем бороться.

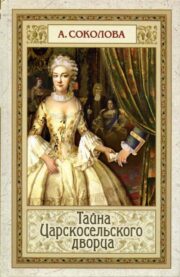
"Тайна Царскосельского дворца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайна Царскосельского дворца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайна Царскосельского дворца" друзьям в соцсетях.