Спустя несколько дней из окон своих покоев я услышала шум голосов. Посмотрев вниз, я едва могла поверить глазам: несколько человек несли носилки, и на них лежал… мой Генрих!
Я поспешила во двор. То, что я увидела, повергло меня в ужас: Генрих, страшно бледный, без чувств. Я ведь чувствовала, что болезнь высасывает из него силы.
Один из тех, кто сопровождал короля, обратился ко мне. Это был высокий красивый мужчина, говоривший по-английски с легким акцентом, природу которого я не могла понять.
Он сказал:
— Королю пришлось покинуть армию. Он больше не мог находиться на поле боя.
— Да, вижу. Но что с ним? Можете вы отнести его в спальню?
— Конечно, миледи.
Генриха перенесли на кровать. Он лежал, не приходя в сознание, тяжело дыша.
Высокий мужчина сказал мне:
— Миледи, полагаю, следует послать за священником.
— О Боже! Неужели…
— Да, миледи. Король уже давно нездоров, но отказывался лечиться и покинуть войско.
Я с ужасом поняла, что предчувствие не обмануло меня: Генрих болен, тяжело болен…
Вернее сказать, он при смерти, но я не хотела, не могла произнести эти слова даже в глубине души.
Казалось немыслимым, чтобы такой сильный, такой мужественный и непобедимый человек лежал сейчас распростертый на постели, беспомощный, онемевший, с закрытыми глазами.
Я сказала чужим голосом, обращаясь все к тому же высокому мужчине:
— Этого не может быть… Мы должны вернуть его к жизни.
Он ничего не ответил, только посмотрел на меня с таким участием и печалью, что глубоко тронуло меня.
Немедленно вызвали врачей, они что-то делали, суетились, и прошло еще несколько томительных, страшных часов, прежде чем я окончательно поняла, что надежды не осталось: мой Генрих умирает.
Оказалось, Генрих какое-то время страдал от дизентерии, самой распространенной среди солдат болезни, но сейчас что-то неладное случилось у него в груди: он сильно кашлял, дышал с большим трудом, лицо его посинело от удушья.
Врачи мрачно качали головами и с безнадежностью разводили руками, показывая, что ничего не могут поделать.
Оставив армию, прискакал герцог Бедфорд. Он вместе со мной стоял в изголовье кровати, на которой лежал Генрих, и его присутствие приносило мне некоторое облегчение. Я чувствовала его искренность и знала, что этому брату Генриха могу всецело доверять.
Милый Бедфорд, он попытался утешать меня, хотя знал, как и все остальные, что состояние Генриха безнадежно.
Я находила в себе силы слегка улыбаться в ответ на его уговоры, даже сказала, что на этот раз бедный Генрих сражается с более могущественным врагом, чем обессиленные внутренними раздорами французы.
Священник не отходил от постели короля, и тот, в перерывах между приступами удушья, пытался просить прощения за совершенные грехи… Какие грехи? Может быть, за бурно проведенную юность? Или за кровь, пролитую с обеих сторон на полях сражений во Франции?… До моего слуха не доходили слова, но мне хотелось, чтобы они оказались такими.
Священник читал семь псалмов. Когда он дошел до слов: «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем…», Генрих слегка шевельнул рукой, показывая, чтобы тот прервался.
С великим трудом, задыхаясь, он произнес громким шепотом:
— Я намеревался… когда закончу завоевание Франции… Крестовый поход в Святую Землю…
Я услышала, что он сказал, и у меня мелькнуло не ко времени: наверное, он хотел походом в Святую Землю замолить свои грехи, содеянные на земле Франции. Кровопролитие… слезы жертв…
Мучительная агония умирающего длилась, казалось мне, бесконечно. Я чувствовала, из меня тоже уходят последние силы.
Шепотом я спросила одного из врачей:
— Появилась надежда?
Он только посмотрел на меня, и в его глазах я прочитала просьбу не требовать ответа.
— Скажите мне правду, — настаивала я.
— Миледи… — проговорил он, — будет чудом, если король проживет еще час или два…
— Брат… где мой брат? — услыхала я его слова.
Герцог Бедфорд, который тоже не отходил ни на шаг от постели, наклонился, взял бессильную руку Генриха.
— Я здесь, — произнес он.
— Джон, — еле слышно сказал Генрих, — ты всегда оставался хорошим братом.
— Да, мой король… Да, мой любимый брат. Я всегда верно служил Англии и тебе.
— Я знаю это, Джон… Ты единственный верный… бескорыстный. Я доверял тебе. Сейчас на тебя ложится честь удержать то, что я завоевал… И еще… Мой сын… мое дитя… Моя Кейт… Охрани их от всего худого, Джон… Она так еще молода… И мой ребенок… Мой Генрих…
Его голос прервался.
— Я сделаю все, о чем ты просишь, Генрих. Положись на меня.
Король еле заметно кивнул и прикрыл глаза. Он выглядел умиротворенным.
В молчании стояли мы около постели, и мне вспомнилось странное предсказание, которое не так давно передали с его слов: «Генрих, рожденный в Монмуте, будет царствовать мало, но сделает много…» Первая половина пророчества уже сбывалась.
Ощущение страха и глубокой потери охватили меня. Одна мысль билась во мне: скорее домой, скорее к моему сыну! К ребенку, потерявшему отца и ставшему, не достигнув еще годовалого возраста, королем Англии…
Я не пыталась уже заглядывать в будущее. Оно и так виделось туманным, таинственным, не предвещавшим ничего хорошего.
Когда я вспоминаю сейчас те дни в Венсеннском замке, меня не покидает ощущение, что я пережила какой-то длительный кошмарный сон. И я страшилась предчувствий, предсказания, так чудовищно сбывшегося.
Я не могла смириться с тем, что Генрих мертв. Ведь он казался таким жизнеспособным, жизнестойким, живучим. Для меня понятней было бы… естественней… если бы он погиб в бою. Но умереть так… почти внезапно… в постели… Трудно в это поверить…
Многое предстояло сделать английской стороне после его смерти… Устроить достойные похороны. Кроме того, следовало дать понять народу Франции, что со смертью великого завоевателя не будет ослаблено английское влияние в стране; что его братья продолжат дела короля Генриха и доведут до окончательной победы.
Интересно, как отнеслись мои родители к тому, что произошло? Без сомнения, в голове матери уже роились всевозможные замысли, один другого изощренней. Что касается моего несчастного отца, то он давно уже оставил надежду на восстановление своей королевской власти и, думаю, не согласился бы нести бремя царствования, даже если ему бы сейчас предложили. Единственное, чего он хотел, — это находиться подальше от всех воюющих и спорящих сторон. Но мой брат Шарль — вот кто, без сомнения, воспрянет духом…
Джон Бедфорд, несмотря на глубокую искреннюю скорбь по умершему брату, взял на себя все хлопоты по устройству похорон. Главным его помощником в этом оказался тот высокий рыцарь, которого я видела возле носилок с умирающим Генрихом и кто неоднократно выражал мне свое сочувствие в дни, последовавшие за кончиной моего супруга.
Я как-то сразу выделила этого человека из остальных придворных. Возможно, потому, что в его умном, открытом и привлекательном лице читались сила характера и честность. А еще мне нравилась его странноватая напевная мелодия речи. Мой собственный английский оставался весьма далек от совершенства; кроме того, я еще с трудом понимала тех, кто говорил не совсем так, как Генрих или другие, с кем я достаточно часто общалась. Оказалось, что этот мужчина родом из Уэльса; его валлийский акцент и музыкальная речь ласкали мой слух, хотя я не всегда разбирала, что именно он говорит. Тем не менее беседовать с ним, расспрашивать о том, что хотелось мне знать, для меня оказалось почему-то легче и приятней, чем с Бедфордом.
Больше всего я стремилась узнать, что происходило под Санлисом перед тем, как Генрих позволил увезти себя с поля сражения, и завела об этом разговор.
— Король, видимо, с трудом принял решение покинуть поле боя? — спросила я.
— Он с огромной неохотой пошел на это, миледи, — ответил человек из Уэльса. — До этого он всеми силами пытался бороться со своей болезнью.
— Вы хорошо знали его? — спросила я.
— Да. Вместе сражались еще при Азенкуре, но и после он не отпускал меня.
— Наверное, был о вас достаточно высокого мнения?
— Я удостоился чести быть ему полезным.
— Расскажите о нем, — попросила я. — Его любили люди… его воины, не правда ли?
— Мне кажется, миледи, ни один король до него не оказывался в таком почете у своих солдат. Думаю, никто не будет и после него. Уверен!
— Вы сами тоже питали к нему любовь?
— Как и все прочие, миледи. Таких людей я еще не знал. По-моему, это величайший воин, который когда-либо жил на земле. Все, кто имел счастье знать его, должны всю жизнь этим гордиться.
— Он был дружелюбен? Строг? Придирчив?
— Всегда добр и великодушен. Люди знали, чего ожидать от него каждую минуту… Быстрых и верных решений… доблести и абсолютной преданности общему делу. Он никогда не ставил невыполнимых задач. «Это сделать сейчас невозможно», — обычно говорил он в таких случаях. Или наоборот: «Это должно быть сделано». И тогда все знали, что и как нужно делать, заранее знали, что победа обеспечена.
— Судя по вашим словам, он само совершенство.
— Он оказался близок к совершенству, миледи, насколько к нему может быть близок смертный человек… и справедливый воин. Некоторые могут сказать, он суров. Да, это правда. Он требовал полного подчинения приказам. Так и должен поступать великий полководец, великий государь.
— Но порой я думаю… — начала я. — Порой мне слышатся вопли детей и женщин, потерявших на войне своих близких… свои очаги… Их стоны преследуют меня временами.
Он с интересом взглянул на меня и ответил:
— Да, понимаю. Вы тоже правы в этом…
— И я не могу не спрашивать себя, — продолжала я, — зачем люди ведут войны? Для чего убивают друг друга?
Его взгляд задержался на моем лице, когда он сказал:
— Король свято верил, что Франция принадлежит ему по праву. Он хотел установить в этой стране лучшее правление, чем прежде.
Он замолчал, видимо поняв, что его слова звучат, мягко говоря, не слишком лестно для моей семьи, если не прямо враждебно.
Я слегка улыбнулась ему, давая понять, что не осуждаю его горячность, и подумала с некоторым удивлением, что, как ни странно, мне хочется еще и еще расспрашивать этого человека, выслушивать его прямые и честные ответы, видеть открытое привлекательное лицо.
А еще мне хотелось услышать из его уст оправдание поступков и действий покойного Генриха — определений, которых тот сам не произнес на смертном ложе, которые не пришли ему в голову. Он ведь и не думал просить прощения у Бога за все те страдания, что по его вине испытали многие люди…
Течение моих мыслей прервалось — я услышала, как собеседник вновь заговорил:
— Миледи, король относился ко всем людям так же строго, как и к самому себе. Но ему несвойственны мстительность или злобность. Он оставался всегда милосердным. Он не разрешал своим воинам неуважительно относиться к женщинам, наказывал за воровство. Он разделял с солдатами все невзгоды их жизни и был примером бесстрашия и доблести в бою.
— Вы делаете из него настоящего героя, — сказала я.
— Он и есть герой, миледи…
Я испытала облегчение. То, что рассказывал этот человек, поддерживало во мне любовь к Генриху, несмотря на все сомнения, которые постепенно поселялись у меня в душе.
С чувством подлинной благодарности я улыбнулась ему и сказала:
— Мы разговариваем не первый раз, но я даже не знаю вашего имени.
Он поклонился.
— Меня зовут Оуэн Тюдор, миледи.
К похоронному обряду изготовили из вываренной кожи фигуру, изображавшую короля Генриха в полный рост и раскрашенную в цвета его одежд. Голову статуи украсили короной, в правой руке она держала скипетр, в левой — державу: золотой шар с крестом наверху.
Изображение поместили в карету, запряженную четверкой лошадей, и процессия тронулась в далекий путь.
Зрелище выглядело внушительным. Впереди ехали представители родовитой знати — такие, как герцог Эксетерский и граф Марч — со знаменами, на которых изображены святые. Следом — четыре сотни вооруженных людей в черных доспехах. В середине отряда находился гроб с телом Генриха. Я следовала немного позади.
Первую остановку мы сделали в Аббевиле, здесь мы отдыхали целый день и еще ночь, и все это время в храме Сент-Ивиан не прекращалась месса за спасение души усопшего.
В конце концов мы прибыли в Кале.
Со дня смерти Генриха прошло уже тогда немало времени, потому что наступило двенадцатое октября, а он умер в последние дни августа.

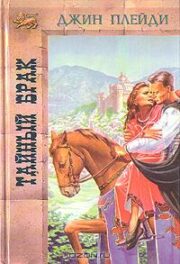
"Тайный брак" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайный брак". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайный брак" друзьям в соцсетях.