Через полминуты раздался звонок.
— Почему я не слышу Варькиного голоса? Ты с кем?
— Она спит еще. Я сейчас разбужу ее.
— Не надо… Ты лежишь? Ты в чем?..
— Саша…
— Я хочу встретиться с тобой… Надо, чтобы у нас все было как раньше, пока мы не стали заниматься огородами и ремонтами… Ты слышишь меня? Я приеду… Отводи Варьку в школу, и я приеду…
— А как же… та женщина? Ты решил с ней расстаться?
— Это что — условие? Давай объявим вообще на эту тему мораторий, а?
— Но я должна знать…
— Зачем тебе это знать? Ты опять меня прижимаешь к стенке? Ты вроде сказала, что все поняла…
— Да. Теперь, кажется, все.
Я положила трубку, перевела дух, пошла в ванную, почистила зубы, выпила несколько бесполезных таблеток валерьянки и стала будить Варьку. С ужасом я услышала, что он звонит снова.
— Прости, наверно, в таком случае вообще ничего не надо. Пока.
И трубку положил он. Старая базарная баба. Пока не оставит за собой последнего слова, не успокоится.
Но и это было не последнее слово в то утро. Я отвела Варю, мы чуть не опоздали, потому что я все делала как под гипнозом. Положила очки в холодильник вместе с сыром, заперла дверь на замок, которым никогда не пользуюсь, и пыталась повязать Варе второй шарф поверх того, что она надела сама.
— Это ты с ним разговаривала, когда я спала? — спросила меня проницательная Варька, когда я целовала ее на прощание около школы.
— Так ты же спала…
— Но ты же разговаривала! — Варька засмеялась и, чмокнув меня теплыми губами в ледяной нос, убежала по лестнице.
Если бы не она… Иногда мне кажется, что я живу не для нее, а благодаря ей. Что в общем-то почти одно и то же.
Когда я вернулась, возле дома стояла машина Виноградова.
— Подкрасься, — скривился Виноградов, выглядывая из окна. — Я через пять минут зайду.
— Не надо, Саша.
— Надо.
То, о чем просил Виноградов на этот раз, меня испугало.
Интересно, куда его потянет, когда он пройдет этот путь порока до конца? Скорей всего, он нежно полюбит девочку с тоненькой шейкой и прозрачной кожицей и месяца через два нежной любви начнет потихоньку ее развращать. Гос-по-ди-и-и!!!
Как любой женщине, у которой нет альтернативы, мне трудно расстаться с моим единственным мужчиной, даже осознавая, что он — стареющий развратный козел. Похотливый, грязный.
Иногда мне его жалко. Иногда он мне противен. Иногда я думаю, что он болен психически. А иногда я начинаю надеяться, что ему это все надоело — он дает мне повод так думать. Он становится просто нежным и чутким. И именно в эти месяцы любви, а не секса он умудряется влезь так глубоко в мое существо, что порой мне кажется — я наполнена им, его запахами, его голосом, его мыслями… Им, им, им… И когда он вдруг, в самый, самый неподходящий момент, в момент моей открытости и нежности вдруг выдирается наружу из меня — я остаюсь пустая и разорванная. Он не составляет себе труда ни предупредить меня о катапультировании, чтобы я хотя бы собралась, ни сделать это аккуратно. Он просто разрывает живую ткань и уходит.
Уходя в то утро, он попытался дунуть на прощание мне в ухо, но, увидев мои глаза, поцеловал воротник скромной блузки, которую он попросил меня надеть в середине мероприятия.
— Я позвоню завтра!
Таким тоном говорят новые знакомые, которые хотят продолжить общение. То есть не то что «я, может, еще тебе позвоню когда-нибудь», а «завтра позвоню!». Я замерла. Виноградов засмеялся и ушел.
— Мам, наверно, зря мы сажали тюльпаны осенью на даче, — вдруг сказала вечером Варька и напустила полные глаза слез.
— Почему зря, Варюша? Ты что, малыш?
Она пожала плечиками:
— Я чувствую… что мы никогда с тобой их не увидим…
Это точная копия моих высказываний: грустная сентенция на основе ощущений. Но она говорила это искренне.
Я весь вечер нервничала, мне было неприятно вспоминать нашу встречу, я не знала, что я скажу Виноградову, когда он позвонит. Я подумала — не отключить ли телефон, но не стала. Потом я стала все-таки ждать его звонка, потому что мне хотелось как-то донести до него, что мне не просто даются все его фантазии. Сказать, что они вызывают у меня некоторое напряжение. Напомнить, что такое можно делать или за большие деньги, или по большой любви. И вероятно, глупости.
К двенадцати часам я ощутила, что мне холодно. Я оделась, включила посильнее батарею, попыталась накрыть заснувшую Варю вторым одеялом, которое она тут же сбросила вместе с первым. Я проверила температуру в комнате — 25 градусов по Цельсию и температуру тела — 36,2… Я заварила горячий крепкий чай, капнула в него кагора. Выпила. И позвонила Виноградову домой. Определитель у него не включился — значит, еще не пришел. Я позвонила через полчаса, еще через полчаса. Позвонила на мобильный — трубку он не взял, ни первый раз, ни третий… мне было противно и стыдно, что я звоню. Но это было самое приятное чувство из всего, что я испытывала в тот момент.
Я знаю, что означает для Виноградова спать у кого-то, спать вместе с кем-то в одной постели. Это он делает только в исключительных случаях. Случаях влюбленности. Сколько раз в жизни он был в меня влюблен, столько раз он пытался приложить меня рядом, а потом, ночью, сняв с меня одеяло, спихнуть на самый край, чтобы я все же ушла в другую комнату.
Он пришел сегодня ко мне со своими потными фантазиями и после этого, в тот же день — пошел к той самой «другой женщине», из-за которой передумал с нами жить!.. И он это знал утром. «Завтра позвоню!» — честно сказал он, после всего, что между нами было…
Мой организм после рождения Вари категорически не принимает ни спиртного, ни сигарет, ни успокаивающих таблеток. Я объясняю себе это загадочным механизмом самосохранения. Просто кроме меня мою дочку растить некому. И я пытаюсь делать все, чтобы рядом с ней была здоровая, молодая, веселая мама. И подольше.
Я выпила еще чаю, поискала в сумках гомеопатический пакетик «Успокой», который недавно купила в аптеке, не нашла и легла. Часам к пяти я заснула, а в семь проснулась. В восемь позвонил Виноградов.
— Привет, — сказал он плохим, чужим голосом.
— Саш, как же ты мог!..
— Э-э-э, нет! Я не за этим тебе позвонил! Просто я видел, что ты звонила на мобильный ночью. Что случилось?
— Саша, зачем ты пошел к ней? Тебе чего-то не хватило вчера?
— Она моложе тебя. Она не устраивает мне истерик.
— Еще скажи, что не просится замуж и не ревнует.
— Совершенно верно.
— Значит, ты ее недавно знаешь.
— Да! Да! И мне это нравится!
— Но зачем же тогда ты ко мне пришел, Саша?..
— Захотел — и пришел! Что-то еще интересует?
— Нет…
Он успел бросить трубку первым. Да какая разница — первым, вторым…
Опять на полном автопилоте я отвела Варю в школу. Как бы сейчас было хорошо пойти на работу. Для этого надо было бы причесаться, накраситься, застегнуть все пуговицы на блузке в нужные дырки и начистить ботинки.
Выплакав все слезы до последней, я села к компьютеру и открыла папку «Идеи». Ведь что-то я хотела писать про одного учителя из Нижнего Новгорода, у меня был такой хороший материал… И еще была идея про школу для слабовидящих детей… Я сидела и тупо читала свои наброски.
Услышав звонок телефона, я твердо решила: «Если он — не поднимать трубку». Но как же не поднимать, а вдруг он решит извиниться? Или скажет, что он вообще все это придумал, чтобы я ревновала? И трубку я сняла.
— А кстати, ты обещала мне кое-что еще в прошлом году, но так и не сделала…
— Что именно?
— Помнишь, я говорил, что у меня есть одно желание, которое я хочу реализовать только с тобой?
— Не помню.
Я помнила: плетки, кнутики, черные лаковые ботфорты… Игры пресыщенных импотентов. Но он сказал что-то совсем другое:
— И не важно. Помнишь, у тебя была такая знакомая… Мила, кажется… Я еще удивлялся, что вас связывает… Жирненькая такая… На ножках… Проблядушечка…
Я понимала, что мне надо положить трубку. Но странное ощущение возникло у меня тогда, и оно оказалось абсолютно правильным. Я почувствовала — именно почувствовала, объяснить ни себе, ни другим это я тогда была не в состоянии: мне надо пройти мой собственный путь ужаса и боли до конца. Я должна увидеть — что там, в конце. Другого способа избавиться от Виноградова, избавить от него свою душу у меня нет. Пока я иду, пока я плачу, а не плюю — мне надо идти. Как бы унизительно это ни было. Иначе я никогда не вылечусь от него.
— Да. Милка. Анисимова. Ее с третьего курса отчислили за то, что она спала с женатым комсоргом нашего курса. Мне всегда было ее жалко. И что?
— Что она сейчас делает?
— Пьет, кажется. Работает официанткой в ночном клубе. Мечтает встретить молодого красивого банкира. Вроде тебя.
— Ну, не такой уж я молодой, — всерьез ответил Виноградов, недавно напившийся до свинского состояния в день своего сорокапятилетия. — Да… Надо бы нам сходить вместе в ресторан…
— Зачем?
— Увидишь. Позвони ей.
— Я могу дать тебе телефон, позвони и сходи сам.
— Нет, милая моя, ты позвони, сходим вместе.
— Не понимаю…
— А тебе и не надо ничего понимать. Позвони. Допустим, в субботу вечером можно сходить куда-нибудь…
— С Варькой?
Александр Виноградов засмеялся:
— Отвези ее к маме.
— Вряд ли. У мамы болен Павлик.
— Тогда пусть придет ваша эта… тетя Маша… или как ее…
— Саша, я не знаю.
— А я знаю. Все, пока.
Мой молочный брат Павлик младше меня на двадцать четыре года, ему только будет четырнадцать. Меня мама родила в восемнадцать лет, а Павлика — в сорок два. Я стараюсь не очень часто ходить к маме, когда ее муж дома, а муж ее дома почти всегда, потому что он дома пишет сценарии компьютерных игр. Мне вполне симпатичен Игорек, хотя он и младше мамы на пятнадцать лет. Он странный. Мне кажется, что он ничего не видит вокруг, кроме компьютера и моей мамы, которая великолепно выглядит, но он и этого не видит. Он сидит сутками за монитором, и, если его позвать в третий раз, он вздрагивает, но не оборачивается. Он придумывает замечательные вещи, которые мне абсолютно чужды, и получает за это сносные деньги, чтобы мама могла не работать и растить малыша Павлика. Павлик, разумеется, не его сын, Игорек появился в маминой жизни позже.
Отец Павлика сел в тюрьму, перестаравшись в первые годы нашего капитализма. Он попытался продать воздух, как делали многие в то время. Снял две комнаты в бывшем Доме пионеров, наделал туристических путевок в типографии, продал две очень удачно, а за третьей пришла жена помощника прокурора округа, просто как туристка — она хотела поехать в Голландию за луковицами тюльпанов. Отец Павлика не успел спрятаться, когда разразился скандал, и его посадили на четыре года. Почему-то он вышел гораздо раньше, но к моей маме даже не зашел.
Мама, в отличие от меня, к мужчинам всегда относилась крайне иронично. По-моему, я больше переживала, что отчим так подло сбежал.
В трудную минуту мама взяла к себе квартиранта — Игорька. Он и прижился в нашей огромной квартире. Мне кажется, если спросить его, сколько моей маме лет, он точно не скажет, хотя брак они оформили официально. От моего папы, который давно умер, маме осталась прекрасная пятикомнатная квартира на «Маяковской» — с двумя кладовками, с комнатой, в которую ведет полукруглая лесенка, — в ней раньше жила я, а теперь прячется от невиртуальной реальности Игорек.
О папе я мало что помню. Он был довольно известным писателем и журналистом. Его или не было дома, или он сидел в своей комнате и писал. Помню, что он был веселый и толстый. Он даже умер во время смеха. Смеялся, смеялся, схватился за сердце и умер. Это вспоминают все его друзья и знакомые, как только заходит разговор о папе. «Ладно, хоть Ленку и квартиру мне оставил, раз уж сам помер», — часто говорила раньше мама. А мне было очень обидно — ничего себе «хоть». Квартира наша — ее — просто роскошная. А я — вот так она меня и воспитывала, я всегда для нее была «ну хоть Ленка…».
Сейчас к маме я хожу редко, потому что, с тех пор как лет семь назад у нее появился Игорек, она стала нервничать при виде меня. Говорить высоким голосом, слишком сильно краситься, выпрямлять и без того прямую спину бывшей актрисы (мама когда-то пела в оперетте) и без конца говорить о том, что она не стесняется своего возраста, совершенно не стесняется и может всем сказать, сколько лет ее дочери… Я обычно тороплюсь объяснить: «Мне уже двадцать девять, у меня маленькая дочь, просто я так плохо выгляжу». Хотя я точно знаю, что возраст — не в морщинках около глаз и рта, не в цвете кожи, а в глазах. Никто никогда не даст мне двадцать девять лет, внимательно посмотрев мне в глаза. Сто лет — даст.

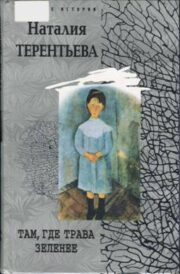
"Там, где трава зеленее" отзывы
Отзывы читателей о книге "Там, где трава зеленее". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Там, где трава зеленее" друзьям в соцсетях.