Скульптуры стояли по всему двору. Хрупкий Давид пригнулся, готовясь метнуть камень из пращи в огромного Голиафа, прикрывающегося круглым щитом и нацелившего длинное острое копье в своего юного противника. Мойше часами ждал, когда же наконец из пращи вылетит смертоносный камень, и нисколько не удивился бы, увидев однажды утром, что Голиаф повержен в прах у ног Давида.
А широкие деревянные ворота фермы, обсаженные ореховыми деревьями, охранял Дон Кихот на вздыбленном скакуне. Мойше подбирал орехи и, подражая отцу, пытался раскусить скорлупу зубами. Да не тут-то было.
Его родители — Якоб и Лия Нойман — перебрались сюда в 1935 году из Мюнхена, где оба преподавали в школе. В Германии поднималась волна антисемитизма, и Нойманы сочли за благо убраться от нацистов подальше: арендовали ферму неподалеку от швейцарской границы в надежде переждать там тяжелые времена.
На замощенном булыжником дворе стояло полдесятка построек под соломенной крышей — дом, где они обосновались, птичник, хлев, овчарня, конюшня на четыре стойла. Двадцать гектаров земли, засеянных пшеницей и кормовыми травами, пахали тяжелым деревянным плугом. Хозяйство было небольшое, но позволяло кормиться плодами своих рук, запасать на зиму вдоволь припасов и почти ни от кого не зависеть. Если же требовалось еще что-нибудь, отряжали работника Ганса — единственного, кто знал, что они евреи, — в соседний городок Равенсбург.
Ганс, веселый малый и большой любитель посидеть за кружкой пива — его солидное брюхо было лучшим тому доказательством — жил в нескольких километрах от фермы, куда каждое утро приезжал на велосипеде. Он и Мойше обещал выучить этому, когда у того ноги будут доставать до педалей. Ганс делал черную работу, Якоб и Лия — все остальное, а потом и дети должны были взять на себя часть общей ноши. У Рахили было особое пристрастие к животным — она вообще любила все, что живет на свете, и всякая тварь земная, казалось, чувствовала это. Мойше в сторонке с опаской смотрел, как она открывает ульи, стоявшие среди вишен. Пчелы густо облепляли ее руки и лицо. Она дразнила Мойше, делая вид, что сейчас двинется к нему, и смеялась, когда он бросался наутек, отшвыривая путавшихся под ногами цыплят.
Мойше ходил за сестрой неотступно: рядом с нею он чувствовал себя под надежной защитой, а она обращалась с ним в точности так, как с телятами, за которыми присматривала. Если он озорничал, она не бранила его, не в пример маме, а просто говорила: «Мойше, не делай так больше», и ее пухлые губы морщились чуть заметной улыбкой. Мойше не мог устоять перед искушением прокатиться по скату соломенной крыши амбара, что было ему строго-настрого запрещено. Он знал: Рахиль сделает вид, что не замечает его проказ. Однажды он, впрочем, доигрался — и упал вниз, прямо на булыжник. Рахиль подняла его, привела плачущего домой, промыла ссадины, перевязала разбитую руку и пообещала, что маме не скажет. В тот день она показалась ему ангелом с картинки в книжке.
Мать — невысокая, плотная, с уложенными вокруг головы косами, отчего широкое лицо казалось еще шире — была неизменно ровна и спокойна, животными не занималась, предпочитая цветы в саду. Когда она подрезала кусты своих любимых белых роз, в глазах, за стеклами очков, появлялось отстраненное выражение. Она никогда и ни на что не жаловалась, хоть и тосковала по Мюнхену, — ей не хватало шума большого города, его музеев, театров и оперы. Здесь, в захолустье, приходилось довольствоваться книгами и пластинками.
Годы шли, тихая жизнь на ферме разительно отличалась от творящегося в мире безумия. Мойше было семь лет, когда он впервые стал догадываться о том, какие события происходят за высоким деревянным забором их фермы. Отец с матерью часто слушали радио, которое почти всегда сердитыми голосами рассказывало о чем-то непонятном. «Если мировому еврейству, контролирующему банки, удастся навязать человечеству новую войну, результатом этого будет полное уничтожение евреев во всей Европе…» — кричал приемник, но Мойше ни разу не удавалось дослушать до конца — когда бы он ни входил в комнату, мать неизменно выключала радио.
Однажды он помогал Рахили отнести на кухню бидон с молоком и вдруг услышал, как спорят родители:
— Ах, Якоб, твой доктор Гольдман — просто паникер: собрался бежать в Америку, потому что его лишили права практиковать. Почему он не обратится в суд?
— Лия…
— Это же цивилизованная страна, — продолжала, не давая перебить себя, мать, — здесь живут порядочные, добрые, честные, трудолюбивые люди, уважающие законы… Взять хоть нашего Ганса.
— Пойми, у власти сейчас совсем другие люди…
— Какая-то кучка хулиганов не сможет перевернуть то, что складывалось веками. Мы здесь родились. Мы — граждане Германии.
— Ты, кажется, забыла — нас уже несколько лет назад лишили гражданства. Безумие торжествует. И я думаю, Гольдманы рассудили верно.
— Чепуха, Якоб! Я отказываюсь в это верить. Убеждена, что скоро все это кончится, и мы вернемся в Мюнхен.
— Мы едем домой, в Мюнхен? — шепнул Мойше сестре.
— Еще не сейчас.
— Расскажи мне про Мюнхен — какой он?
Поставив бидоны на скамейку в кухне, они вышли во двор.
— Я сама не очень хорошо помню. Он — красивый, а мы жили в таком чудном маленьком домике… и во дворе росли красные цветы.
— А коровы и лошади где же были?
— Глупый, у нас ведь не было ни коров, ни лошадей, пока мы не переехали сюда. Мюнхен — город, а не ферма. Мама с папой там учили детей в большой школе.
— Мне бы тоже хотелось ходить в настоящую школу — там, наверно, задают поменьше, чем мама нам здесь.
— Не хнычь, Мойше, надо учиться.
Но все свои вопросы Мойше немедленно забыл, когда, лежа рядом с Рахилью, слушал свою любимую сказку про Снежную королеву. Рахиль как раз дошла до того места, где злобный тролль радуется своей коварной выдумке: «…и тогда он решил с помощью этого зеркала подразнить самого Господа, — читала Рахиль. — Но когда он взлетел под самые небеса, зеркало выскользнуло из его пальцев и разбилось вдребезги, на миллиарды крошечных осколков…»
Голос ее звучал проникновенно и мягко, доносившаяся из соседней комнаты моцартовская мелодия не заглушала, а как бы вторила ему: «…и если такой осколок попадет в глаз, будешь все видеть уродливым и искаженным. А если в сердце — станешь жестоким и злым, сердце же превратится в кусок льда».
— Рахиль, — неожиданно перебил ее Мойше, — что это у тебя на груди такое? Какие-то шишечки.
Рахиль не отрывала глаз от книги.
— Можно мне потрогать, а? Можно?
Рахиль захлопнула Андерсена.
— Не хочешь слушать дальше — так и скажи.
Мойше испуганно притих. Рахиль снова открыла книгу и поправила сползавшую с плеч ночную сорочку.
Мойше недоумевал: появись у него на груди две такие шишечки, он бы обязательно дал сестре потрогать их.
Каждый вечер, разнуздав лошадей и задав им овса, отец разрешал Мойше чистить и смазывать маслом множество хитроумно сплетенных кожаных ремешков — конскую сбрую и упряжь. И всякий раз в ответ на свой вопрос: «Ну, когда же я буду править ими?» — слышал: «Когда научишься запрягать и взнуздывать». До этого было пока далеко.
После ужина он смотрел, как отец работает над очередной статуей. Издалека доносился голосок Рахили — она напевала, помогая матери мыть посуду, но сегодня этот звонкий и чистый голос звучал отчего-то грустно.
Потом Мойше Не раз будет вспоминать, как отец, прервав работу, поднял на лоб «консервы» и вытер слезы.
— Папа, ты плачешь?
Отец не отвечал, утирая глаза.
— Папа, папа! — затеребил он его. — Что с тобой?
Якоб долго смотрел на него, потом улыбнулся:
— В глазах Господа то, что я делаю — грех.
— Почему?
— Когда-нибудь объясню, — он снова включил горелку.
У Мойше было наготове не меньше сотни вопросов. «Почему же делать скульптуры — грех? Как это может быть? Бог, конечно, странный какой-то: велел Аврааму убить Исаака, принести его себе в жертву, а теперь не позволяет создавать такие чудесные фигуры…» Однако он промолчал — не хотел, чтобы отец опять плакал.
Днем, после уроков с мамой, они с Рахилью занимались хозяйством, и это ему нравилось куда больше алгебры и геометрии. Надо было накормить цыплят, засыпать свежего овса в стойла, помочь Гансу выгрузить с фуры сено.
Однажды он попросил сестру, чтобы научила его доить корову. У Рахили это получалось очень ловко: молоко так и брызгало в подойник из-под ее проворных пальцев. Мойше глядел из-за ее плеча и невольно видел так удивившие его припухлости у нее на груди — они стали больше.
— Рахиль… — протянул он. — Ну покажи-и.
Вместо ответа она брызнула ему в лицо теплым молоком. Мойше, вытираясь рукавом, продолжал канючить:
— Ну, дай я посмотрю… Ну, так нечестно… Я-то тебе все показываю — помнишь, я нашел дохлую змею — сразу тебя позвал…
Они вышли из коровника и вдруг услышали частый стук копыт. На лугу, за вишневыми деревьями, серый в яблоках жеребец, отставив хвост, торчавший, как вымпел, плясал вокруг гнедой кобылки, прыгал, становился на дыбы и снова носился кругами. Кобылка изогнула шею, и, когда жеребец прервал свой танец, потерлась мордой о его гриву, потом повернулась к нему задом, подняла хвост, расставила задние ноги. Жеребец встал на дыбы — Рахиль и Мойше увидели у него под брюхом гигантский член — обхватил бедра кобылы передними ногами и опустился на нее, покрывая. Теперь они видели только, как ритмично и размашисто задвигался его круп.
— Он же ее покалечит! — закричал Мойше.
— Нет… нет… ей приятно, — мягко ответила Рахиль, не сводя глаз с лошадей на лугу.
Они стояли молча, пока не раздался голос матери:
— Дети! Поторопитесь, пожалуйста, пока молоко не скисло.
Потом они стали играть в прятки. Мойше притаился под грудой одежды, висевшей за кухонной дверью, и беззвучно хихикал, глядя, как сестра пошла совсем в другую сторону. Вдруг он услышал голос отца и заглянул в щель между косяком и дверью.
— Почему ты не слушаешь радио?
— Больше не могу, — отвечала мать, штопавшая за столом носки. — Я должна поговорить с тобой.
— О чем же?
— Знаешь, — сказала мать, — сегодня была случка… Серый и гнедая.
— Ну и прекрасно. Я рад, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.
— Дети на это смотрели…
— И?..
— С большим интересом.
— Это невинный интерес. Дети должны усвоить, что на свете есть не только жизнь и смерть. Есть еще и любовь, разные ее виды. Ты не думаешь, что им пора знать об этом?
Мать сидела, не поднимая глаз от штопки.
— Я думаю, что Мойше — уже большой мальчик и должен спать отдельно… Надо его перевести на чердак.
Отец громко расхохотался:
— Что ж, и это — жизнь.
Мойше очень не понравилось то, что он услышал. Зачем это ему спать одному, без Рахили?
Но в тот же вечер он понуро перетащил свои пожитки по деревянной лестнице наверх, на чердак — темный, затхлый, с крохотным оконцем, выходившим на двор и конюшню. Просто какая-то темница. Тяжелые стропила нависали над головой — того и гляди, раздавят — и словно пригибали ее вниз. Мимо прошмыгнула крыса, и Мойше, хоть никогда не боялся их, вздрогнул и отдернул руку. Ему так хотелось опять оказаться внизу, на широком соломенном тюфяке рядом с Рахилью, почувствовать себя под ее защитой, прижаться к ней…
Он лежал, стараясь не расплакаться, и вдруг услышал осторожные шаги по лестнице. В дверях появилась голова сестры, и Мойше заткнул себе рот, чтобы не завопить от радости. Он не сводил с нее глаз, а Рахиль достала из кармана огарок свечи, зажгла его, присела на кровать и начала читать его любимую сказку: «…вдруг подул сильный ветер, и что-то попало Каю а глаз. Герда попыталась вынуть соринку, но Кай вдруг закричал: „Какие противные розы!“, — потом сломал розовый куст, пнул ногой цветочный горшок и убежал…»
— Рахиль, — перебил он ее, — у нас тоже сегодня был сильный ветер… Посмотри, может, и мне что-нибудь залетело в глаз, — и он подставил ей голову.
Рахиль с улыбкой склонилась к нему, поцеловала в лоб:
— Ничего у тебя там нет, никаких осколков злого зеркала. А теперь спи, — и задула свечу.
По пятницам, когда наступал вечер, отец бросал работу. Вся семья, вымывшись и принарядившись, усаживалась за столом, покрытым белой скатертью. Зажигались свечи, и мать читала молитву, которую повторяла за нею Рахиль. Мойше очень гордился: отец, как взрослому, позволил ему произнести слова молитвы, когда преломляли хлеб, испеченный матерью и сестрой в честь субботы.

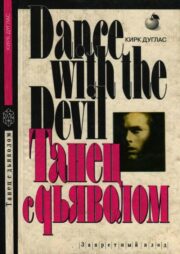
"Танец с дьяволом" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец с дьяволом". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец с дьяволом" друзьям в соцсетях.