После праздничного ужина, когда и суп, и жареные цыплята с овощами были съедены, отец взял Мойше за руку и повел во двор. Подняв голову к иссиня-черному, усыпанному крупными звездами небу, он молча помолился, а потом сказал:
— Трудно быть евреем, сынок.
Мойше молчал, не зная, что ответить на это.
— Бог запрещает евреям делать изображения людей и животных даже из ржавых железок. Это — грех. Вот я и прошу у него прощения за это.
— А мне так нравится то, что ты делаешь, папа.
— Это плохо, Мойше, это греховно. Это нарушает одну из Божьих заповедей: «Не сотвори себе кумира». Я грешник, Мойше, — он взглянул на сына и с печальной улыбкой сказал: — Знаю, сейчас ты не понимаешь, о чем я. А вырастешь — сам увидишь, какая это мука — быть евреем.
Первым его увидел Ганс, вместе с Мойше сгребавший в стога сено. С пригорка спустился молодой человек с рюкзаком за плечами.
— Эй, вы кто? — крикнул Ганс.
— Я ищу господина Ноймана.
Ганс глядел на него недоверчиво.
— Я был его учеником, — добавил молодой человек и улыбнулся, сверкнув белыми ровными зубами. Он был невысокого роста, коренастый, кареглазый и темноволосый, с едва пробивающейся бородкой.
— Герр Нойман очень занят, — неприветливо буркнул Ганс.
Мойше удивился: отчего это их дружелюбный и веселый работник так ведет себя?
— Ганс, а Ганс… У нас же никого нет… Папа, наверно, обрадуется ему…
Ганс что-то невнятно пробурчал, и тогда Мойше сам вызвался проводить гостя. Они зашагали к ферме, а Ганс молча следовал за ними чуть поодаль.
Отец осматривал ногу лошади, несколько дней назад напоровшейся копытом на гвоздь. Завидев их, он осторожно опустил ногу животного, выпрямился, вглядываясь в лицо незнакомца.
— Вы меня не узнаете? Давид Майер, ваш самый скверный ученик.
Лицо отца озарилось широкой улыбкой. Он стиснул юношу в объятиях.
— Давид, Давид, да у тебя уже борода! Когда мы в последний раз виделись, ты еще и не брился!
— Я и сейчас не бреюсь.
— Господи, сколько же лет прошло? Пять или шесть?
— Да нет, пожалуй, семь или восемь.
— Верно! Мы перебрались сюда, когда Мойше было три года, а ему уже скоро пойдет двенадцатый. Как же ты меня разыскал?
— Доктор Гольдман сказал, где вас найти, и передал со мной весточку.
— Как он поживает?
— Они уехали из Германии.
— Значит, плохи дела?
Давид перестал улыбаться, коротко глянул через плечо на Ганса.
— Мне бы надо с вами поговорить с глазу на глаз…
— Не беспокойся, Ганс — свой. Но пойдем в дом. Умоешься и передохнешь с дороги.
Мойше заметил, что Ганс довел их до самых дверей, продолжая подозрительно поглядывать на гостя.
Все расселись вокруг стола на кухне и стали слушать Давида.
— В городах евреев уже не осталось, а теперь Эйхман сколотил особые группы «охотников», которые рыщут по деревням, хуторам, мызам в поисках тех, кто сумел скрыться.
Наступила тишина. Давид съел несколько ложек супа, поставленного перед ним, время от времени бросая восхищенные взгляды на Рахиль. Та каждый раз заливалась румянцем.
— Пока пробирался к вам, видел, как гестапо набивает грузовики людьми — мужчинами, женщинами, детьми.
— Зачем? — спросила мать. Мойше удивился тому, как дрожит ее голос.
— Не знаю, фрау Нойман, — Давид снова взглянул на Рахиль. — Говорят, их везут в лагеря.
— В лагеря? Какие лагеря? — спросил Мойше, мигом представив себе палатки и костер.
Все посмотрели на него, и он смутился оттого, что перебил разговор взрослых.
— Не знаю, Мойше, — чуть усмехнувшись, ответил Давид.
— А как вы считаете… здесь… мы в безопасности? — все тем же нетвердым голосом спросила Лия.
— Нет! — резко ответил Давид, и Мойше вздрогнул от неожиданности. — Я направляюсь к озеру Констанс. Если дойду, оттуда можно будет перебраться в Палестину или в Америку. Идемте со мной.
— Да, — кивнул Якоб. — Ты прав. Надо бежать.
— Но когда? — в голосе матери Мойше слышал ужас.
— Сейчас же, Лия. Немедленно, — отец обнял ее за плечи, и она припала к его груди. — Мойше, ты бы сходил помог Гансу задать корм скотине. Пусть досыта поест напоследок.
Мойше выбежал из дома, громко зовя работника. Тот не отзывался. И велосипед его куда-то пропал. Куда он запропастился? Что могло случиться? Размышляя над этим, мальчик вернулся в дом, где уже полным ходом шли сборы.
Продолжались они и вечером. Мойше поднялся к себе на чердак, чтобы забрать свои пожитки, и вдруг услышал рычание мотора. Он подскочил к оконцу, выглянул — слепя фарами, в ворота въезжал тяжелый грузовик. Лаяли собаки. Рядом с водителем он увидел Ганса, хотел было окликнуть его, но в этот момент он увидел, как из кузова спрыгнули двое с винтовками.
Мойше никогда не забыть грохот прикладов, ударивших в дверь его дома.
Солдаты обшарили весь дом. Мойше видел, как один из них сунул в карман золотые часы отца. Другой схватил за руку мать, та отшатнулась, дрожа всем телом. Солдат грубо сорвал у нее с пальца обручальное кольцо. Отец шагнул было вперед, но солдат отбросил его ударом приклада. Рахиль заплакала. Давид обнял ее за плечи, стал приговаривать, успокаивая:
— Все будет хорошо, все будет хорошо…
Мать вцепилась в рукав отцовского пиджака:
— Почему же Ганс — с ними?
— Люди часто совершают необъяснимые поступки — от страха… или из корысти.
Мойше долго пытался понять, что означают эти слова.
В тупике их уже ждал товарный состав. Вместе с тремя другими еврейскими семьями их посадили в теплушку. Один из их невольных попутчиков сказал, что находится здесь уже четыре дня, и, по слухам, их отправляют в Италию, в новый концлагерь…
Когда поезд ненадолго останавливался, принимая последних выловленных в Германии и в Австрии евреев, через чуть приоткрытую дверь им просовывали ржаной хлеб и бадейку с водой. После этого дверь снова тщательно запирали. Выходить наружу не разрешали — приходилось справлять нужду в углу, где лежала охапка соломы. В вагоне было полутемно — свет проникал лишь через небольшие отверстия у самой крыши.
Так прошло три дня. Давид оказался самым бодрым и неунывающим из всех — заводил разговоры с соседями, затевал какие-то игры в слова, чтобы время не тянулось так мучительно долго. Он всячески опекал Рахиль — укутывал ее в свой пиджак, находил для нее место поудобней, когда стоять было уже невмоготу, делился с нею скудной едой.
Постепенно все как-то привыкли и освоились, только Лия была точно в столбняке и смотрела перед собой невидящими глазами. Отец чуть ли не силой заставлял ее съесть кусочек хлеба. Она, ни на что не обращая внимания, раскачивалась всем телом взад-вперед, монотонно повторяя один и тот же пассаж из сонаты Шопена.
Мойше брал пример с отца — тот был спокоен и не выказывал страха — и вскоре нашел себе занятие: маленьким перочинным ножичком пытался проковырять толстую стенку вагона. Дело было нелегкое, вот если бы он был сильным, как папа…
Когда прибыли в Триест, мужчин и женщин разделили, посадили в грузовики, отвезли куда-то на окраину города, там велели построиться перед широкими железными воротами, над которыми было написано: «LA RISIERA DI SAN SABBA».
— А что это значит? — спросил Мойше.
— «Рисьера» по-итальянски значит «рисовая фабрика», — объяснил Давид. — Может, хоть с голоду не помрем.
Никто не засмеялся.
За воротами Мойше сразу увидел высокую трубу, из которой в чистое синее небо поднимался черный дым. Он ухватил отца за руку и с удивлением заметил, что она дрожит. Тогда он задрал к нему голову — дрожал и подбородок, и впервые за все время пути Мойше почувствовал: происходит что-то ужасное.
Их поставили в две шеренги и повели по узкой, посыпанной гравием дороге между фабричными бараками. На плацу снова выстроили, и к ним вышел комендант лагеря — высокий, сухопарый, лет сорока, не больше. Прохаживаясь перед строем, щеголевато постукивая каблуками, он осматривал арестантов, нетерпеливо щелкал пальцами, обтянутыми перчатками из тонкой черной кожи, отдавая распоряжения своей свите.
Испуганных людей быстро рассортировали. Мертвую тишину время от времени разрывал чей-нибудь душераздирающий вопль. Первыми увели женщин с грудными детьми, больных и стариков. Среди них Мойше увидел и мать — она шла, как лунатик.
— Куда она? — спросил он отца, но тот смотрел ей вслед, шепча молитву.
Потом отобрали годных для работы мужчин. Якоб, Мойше, Давид попали в их число. Мойше оглянулся туда, где оставалась Рахиль и другие молодые женщины, увидел, как комендант, показывая на нее, что-то говорит своим помощникам. Офицер учтиво взял ее под руку и повел к ожидавшему в стороне автомобилю. Рядом раздался сдавленный стон. Мойше увидел, как Давид впился зубами в крепко стиснутый кулак.
С этого дня началось их немыслимое существование. Арестантов держали в крошечных каморках, где раньше хранился неочищенный рис. Мойше часто просыпался по ночам от лязга стальных дверей и воплей людей, которых выволакивали наружу. Днем гремел духовой оркестр — комендант отдавал предпочтение вальсам Штрауса. Из высокой трубы беспрестанно поднимался черный дым.
Поначалу Мойше вообще не спал, вскакивая при каждом новом крике, от которого стыла кровь в жилах, а потом еще несколько часов лежал, не в силах унять дрожь. Но теперь, когда минул год их лагерной жизни, он душевно огрубел и уже не плакал, вспоминая мать и сестру. Жуткий кошмар стал обыденной повседневностью. Хорошо хоть, что их с отцом пока не разлучили.
Давид тоже сначала был вместе с ними, а потом его перевели в столярную мастерскую. Якоба определили в сварщики, а Мойше — ему в подручные. Итальянцы-охранники разрешали им даже ночевать там же, в полуподвальной мастерской, а не возвращаться в переполненный барак.
Ходили они в том же, в чем их привезли в лагерь, и одежда стала ветхой и грязной. Мойше вытянулся, и брюки еле доходили ему до щиколоток. А отец, наоборот, сгорбился и стал меньше ростом, исхудал, постоянно кашлял и пребывал в каком-то своем мире, не имеющем отношения к действительности.
В первое время Мойше все надеялся, что среди множества шагающих мимо их полуподвального окна ног он увидит коричневые башмачки с желтыми шнурками — мать надела их в дорогу. Потом смирился и поверил, что им с матерью увидеться больше не суждено.
Он сидел на своем обычном месте, у забранного решеткой окна, и смотрел наружу. В отдалении рычали грузовики, потом мимо промелькнули колеса нескольких мотоциклов, а за ними появилось множество устало шаркающих ног. Значит, пригнали новую партию заключенных. Отца совершенно не занимало то, что творится снаружи, и, казалось, он даже не слышал гремевшую за окном музыку — так увлекла его работа.
— Мойше, куда ты смотришь?
— На птиц…
— Да, птицы прекрасны… И так свободны. Я тоже люблю смотреть на птиц, — руки его продолжали колдовать над кусками железа. — Помнишь аиста, которого я смастерил?
— Конечно, помню — на крыше коровника.
Отец печально улыбнулся и сейчас же от приступа кашля согнулся пополам.
— Папа, папа! Что с тобой? Ты нездоров?
Якоб, еще не успев справиться с дыханием, успокаивающе покивал головой:
— Все в порядке, все в порядке… — и снова принялся за работу.
На уродливом остове из приваренных одна к другой ржавых железок, болтов и гаек — по мысли отца, это означало нацистский режим — возвышался человеческий скелет. Руки несчастного огромными гвоздями были прибиты к поперечине деревянного креста, а на локте еще сохранилась белая повязка с голубой шестиконечной звездой. Голова бессильно упала на грудь. За стальными полосами, ребрами, виднелся кусочек сияющей меди. Так мастер хотел показать измученную палачами душу.
Эта работа отнимала у отца последние силы, но что мог сделать Мойше? Вздохнув, он снова повернулся к окну.
Совершенно неожиданно и непонятно откуда на дороге появился ребенок, видимо, только-только научившийся ходить. Он сделал два-три неуверенных шага и шлепнулся прямо перед окном. Мойше бессознательно просунул руку сквозь прутья, чтобы помочь ему. В ту же минуту тяжелый кованый армейский сапог с размаху ударил ребенка в голову, проломив еще хрупкие косточки. Череп словно лопнул, брызнув во все стороны кровью и мозгом.
Мойше похолодел от ужаса, закрыл глаза.
Потом, немного оправившись от потрясения, побрел в глубь мастерской. Отец продолжал работу, время от времени заходясь в кашле.
— Папа, почему Бог не удержит людей от дурных поступков?

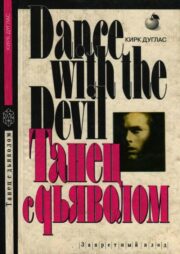
"Танец с дьяволом" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец с дьяволом". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец с дьяволом" друзьям в соцсетях.