— Убирайтесь. Вы достаточно измучили Патрицию.
— Это моя дочь. Я имею право видеть ее.
— Никаких прав у вас нет, и больше вы никогда ее не увидите.
— Вы ее отняли у Стефани, теперь и у меня хотите отнять?!
По знаку Джи-Эл охранники отпустили Дэнни. Он взглянул в глаза Стоунхэма.
— Я же сказал, что уничтожу тебя. Придет время, и ты пожалеешь, что на свет родился, ты — жидовский ублюдок!
Дэнни похолодел.
— Да-да! Я знаю про тебя все! И про «Сан-Саббу», и про то, как тебя усыновили… Тебе повезло — тебя не сожгли в печи, как ты того заслуживаешь. — Губы Джи-Эл скривились в усмешке, все происходящее было мигом его торжества. — Ты думал, жидовская тварь, что сумел отвести всем глаза?! Не вышло! Теперь все узнают то, что ты так тщательно скрывал! Я об этом позабочусь!
Дэнни стоял, не в силах пошевелиться. Этот человек откопал то, что было похоронено на другом полушарии. Он глубоко вздохнул:
— Делай что хочешь, — внезапно охрипшим голосом произнес он. — Меня интересует только Патриция. — Голос его окреп, он двинулся на каменную фигуру тестя, взмахнул перед его лицом окровавленной ладонью. — Ты, что ли, сволочь, будешь заботиться о ней? У нее же нервный срыв, ее нужно показать врачам!
— Она получит все, что только можно купить за деньги.
— Но это еще далеко не все! Твои золотые браслеты и лошади не заменят ей мать. А Стефани убил ты!
— Замолчи! — толстые жилы вздулись на красной шее Стоунхэма.
— Ты разорил своего отца, ты уморил свою жену…
— Заткнись, я сказал!
— Ты — выродок! Неужели ты думаешь, я дам тебе сделать подобное с Патрицией — с моей дочерью, в жилах которой течет моя кровь — моя еврейская кровь?!
— Я убью тебя, если станешь у меня на дороге, — прошептал Стоунхэм.
— Придется, придется меня убить, — Дэнни подошел вплотную, навис над Джи-Эл. — Придется, потому что я не сдамся никогда!
— Вон отсюда! Убирайся вон! Во-о-он! — побагровев, завопил Стоунхэм.
Вбежавшие телохранители скрутили Дэнни. Стоунхэм тяжело отдувался. Последнее, что видел Дэнни, перед тем, как его выволокли из комнаты, — Стоунхэм, рухнув в громадное кожаное кресло, уставился в пол — туда, где ковер был испачкан кровью.
Когда в аэропорту Кеннеди он сел в «Боинг-747», ему казалось, что голова вот-вот лопнет. Внутри гудел тяжкий колокол, не заглушавший всхлипываний Патриции. Надо подумать, надо вырваться из мертвой хватки Стоунхэма.
«Жидовский ублюдок» — вот какими словами этот человек пробил огромную брешь в стене дома, которое он возводил столько лет и считал неприступной твердыней.
Как отнесется Патриция к этой тайне? А вдруг она скажет: «Я не хочу быть еврейкой». Никогда еще не испытывал Дэнни такого бессилия, такой беспомощности…
— Счастливого рождества, — сказала стюардесса.
Дэнни захотелось засмеяться — засмеяться до слез, которые спутают наконец мучительные мысли.
Глава XVI
1988.
ЛОНДОН.
Кот вспрыгнул на стол, потерся о руку Любы, но она мягко отодвинула его в сторону, и он, осторожно пройдя между пачками счетов, нашел наконец подходящий листок бумаги и улегся на него.
«Боже, — думала Люба, — ничего себе начинается новый год! И откуда взялась такая пропасть счетов?» Она получила от сестры миссис Маккивер сто фунтов за портрет ее собаки и двадцать пять — от водопроводчика за небольшой эскиз, но это все оказалось каплей в море. Она достала из-под брюха кота записку Дороти:
Сегодня вечером — встреча с рок-группой.
Она ненавидела эти встречи, но делать нечего. Слава Богу, что Дороти сменила гнев на милость. Она скомкала записку, швырнула ее в мусорное ведро, но не попала. Кот подхватил бумажный шарик и стал катать его.
Где же взять денег? Вечер с молоденьким рок-певцом не решит проблемы. Остается один выход — эта мысль давно уже засела у нее в мозгу. Так или иначе, терять ей нечего.
На следующий день, ничего не сказав Магде, она отправилась на вокзал Виктория и купила билет до Брайтона и обратно.
Под уныло моросящим зимним дождем гостиница «Гринфилдс Инн» казалась заброшенной и обшарпанной. Большой щит на газоне сообщал «ПРОДАЕТСЯ» и рекомендовал за более подробными сведениями обращаться в Королевский брайтонский банк. Люба огляделась по сторонам — на улице, как всегда в «мертвый сезон», не было ни души — и подошла к подъезду. Он был заперт. Тогда она пошарила в цветочном горшке перед входом, откуда до сих пор торчала ярко-красная пластиковая герань, выудила оттуда ключ.
Ей было неуютно и страшновато в холодном пустом доме, где так гулко раскатывалось эхо ее шагов. Но она знала — деньги должны быть где-то здесь. Больше полковнику спрятать их было негде. Она десятки раз думала об этом, мысленно обшаривая каждый уголок отеля, и пришла к выводу, что лучше места для тайника, чем в «цоколе», не найти. Да, они там! Она вспомнила тот день, когда полковник заставил ее перетаскивать мыло, салфетки, полотенца и прочую дребедень на чердак, и она впервые поняла, что у него не все дома. Дело было не в его ненормальности — просто он не хотел, чтобы она здесь появлялась. Но куда же он запрятал деньги?
У дверей его кабинета она замедлила шаги, заглянула в дверь, потом вошла. Сколько кошмарных воспоминаний связано с этим местом! Бюро было отперто и пусто, на вешалке аккуратно висел его кургузый белый пиджачок. Интересно, а в чем же его хоронили? Он бы, разумеется, хотел лечь в гроб в парадном мундире при всех орденах… Стоп! Вот оно! Ну, конечно!
Люба бросилась вверх по лестнице, представляя себе на бегу, о чем думала Магда, таща последний ящик мыла туда, на чердак, где лежал бездыханный полковник…
Уже смеркалось. Она зажгла свет и, поглядывая, не осталось ли на железных ступенях следов крови, стала взбираться на чердак. Добралась и окинула взглядом гору коробок мыла и туалетной бумаги… Сколько раз она пряталась здесь и рисовала, пока полковник разыскивал ее… Вот здесь, направо у стены стоял деревянный сундук, на который она забиралась. Она попыталась поднять тяжелую крышку — заперт!
Она слетела по ступеням вниз, на кухню, спугнув мышку, юркнувшую за плинтус. Достала из ящика деревянную колотушку, топорик для колки льда и побежала обратно. Она не сомневалась, что деньги — там, в сундуке. Вставила толстое лезвие в щель под крышкой и принялась бить по обуху молотком. Крышка подалась неожиданно легко, она откинула ее и увидела аккуратно сложенный полковничий парадный мундир и сверху — фуражку. Она вынула это из сундука. Под мундиром оказались сабля, африканская резная фигурка-талисман, каска, стек. Люба растерянно обшарила сундук. Пусто. Больше ничего. Но этого не может быть! Она уверена, что тайник где-то здесь. Нагнулась над сундуком, чтобы сложить в него доспехи полковника и вдруг замерла. Потом провела пальцами вдоль нижнего края и в самом углу нащупала едва заметную скобочку. Она потянула — и дно сундука выдвинулось, открывая потайной ящик. В нем лежала железная коробка. Люба торжествующе схватила ее. Коробка была заперта. Улыбаясь, Люба потянулась за топориком.
— Кто здесь? — раздался мужской голос.
Черт! Она стремительно задвинула второе дно, запихнула в сундук все, кроме мундира и коробки, захлопнула крышку.
— Кто здесь? — снова прозвучал голос.
Люба обвернула коробку мундиром, прижала его к груди и стала спускаться по крутым железным ступеням. На площадке, задрав голову, стоял полисмен.
— Боже мой, сержант Суинни! Это вы? Я так рада вас видеть! Вы меня напугали.
— Мисс Джонсон! В каких странных местах мы с вами встречаемся! Что вы здесь делаете?
— То же самое я могу спросить у вас, — кокетливо ответила Люба, спускаясь по ступенькам и подходя вплотную к нему.
— Я увидел свет, мисс Джонсон, и зашел погасить его.
— Дорогой сержант Суинни, мне сюда ужасно не хотелось возвращаться, да еще одной, но мать… Вы не представляете, как много это значит для нее! — Она положила свободную руку ему на плечо и заглянула в глаза.
— Но, мисс Джонсон, отель опечатан и идет с торгов, отсюда ничего нельзя выносить.
— Конечно, но мама была в таком горе, что забыла захватить при отъезде этот мундир… Полковник Джонсон воевал в нем в Африке, это наша семейная реликвия, — Люба прижалась к нему грудью.
— Да, конечно… я понимаю, но… все же, мисс Джонсон, это не положено…
Глубокая скорбь появилась в ее глазах.
— Ну, если так, заберите его.
— Да нет, я думаю, ничего страшного.
Пока они шли по коридору к лестнице, Люба несколько раз будто случайно споткнулась. Сержант обнял ее за талию, чтобы поддержать. Свет он выключить позабыл, а Люба не напомнила.
— Вы не сочтете меня нахалом, мисс Джонсон, если я опять приглашу вас на чашку чая? — застенчиво спросил покрасневший сержант.
— Вовсе нет. Беда в том, что мне надо успеть на лондонский поезд.
— Но вы хоть позволите проводить вас на станцию?
— Мне не хочется вас затруднять…
— А мне хочется вас проводить.
— Спасибо. Я в самом деле должна вернуться в Лондон: мать будет беспокоиться.
— Надеюсь, она вскоре утешится.
Люба снизу вверх взглянула на него, сжала его руку:
— Нет, сержант, пройдет еще много времени, прежде чем заживет эта рана.
— Понимаю, понимаю, — с искренним участием ответил он. — Но, может быть, хоть этот мундир внесет покой в ее душу.
— Вы и не представляете, как много это для нее значит, — сказала она, не сводя с него затуманенных глаз.
Когда они пришли на станцию, по радио как раз объявили посадку на лондонский поезд. Прежде чем войти в вагон, Люба обернулась и поцеловала сержанта в губы.
— Я вам так благодарна…
Поезд тронулся, и мимо окна проплыл оцепеневший сержант Суинни.
— Люба… Люба, где ты это… — Магда глядела на мундир. — Где ты это достала?
— Из сундука.
— Ты была в Брайтоне?
— Конечно.
— Ты что, спятила?
Люба, не произнеся ни слова, швырнула мундир на пол, а железную коробку водрузила на стол.
— Что это?
Люба, молча улыбаясь, принесла стамеску и молоток, примерилась, размахнулась и воскликнула:
— С Новым годом!
Коробка с треском открылась, и по столу разлетелись туго спрессованные пачки банкнот.
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Студия не работала, и Дэнни был уверен, что его не хватятся. Он мог затаиться. Настроение, овладевшее им в самолете, не проходило — какая-то затянувшаяся истерика. Он запер двери, задернул шторы, отключил телефон и стал пить. Водка не помогала — страх не проходил.
Когда Стоунхэм приведет свой приговор в исполнение? Что скажут окружающие его люди? Какими глазами посмотрит на него Милт? Разоблачен, разоблачен! И Патриция… От одной мысли о дочери он холодел. Она и так — на грани самоубийства. Что может он сделать для нее? В силах ли он помочь ей, даже если Стоунхэм ослабит контроль? Ни на один из этих вопросов ответов он не находил.
Там, в особняке, последнее слово вроде бы осталось за ним, но он-то отлично понимал, кто вышел победителем. Стоунхэм связал его по рукам и ногам и все туже стягивал узлы, не давая ему ни двигаться, ни действовать, ни говорить, ни дышать.
Дэнни просидел за бутылкой много часов, не вставая. Он снова и снова наполнял свой стакан, не обращая внимания на красную лампочку, пульсирующую на крышке факса. Ему хотелось только одного — погрузиться в пьяную одурь, заснуть и не просыпаться. Но мигающая лампочка раздражала — свет ее проникал даже под закрытые веки. Он потянулся выключить факс, и на стол выполз листок бумаги. В глаза бросилось одно слово — «Патриция».
Он взял листок в руки, попытавшись сфокусировать на нем осоловелые глаза. Это было письмо от адвоката Стоунхэма:
Настоящим уведомляем Вас, что Патриция находится в частной лечебнице, где ей оказывают квалифицированную помощь. Ее состояние улучшается. По мнению врачей, курс займет несколько месяцев. В течение этого срока ей предписано воздерживаться от контактов с кем бы то ни было.
Дэнни несколько раз перечитал факс. «Улучшается» — это главное. Куда ее поместили, не сообщается, но он был рад получить от Джи-Эл и такую малость. Может быть, Стоунхэм изменил свое решение и не станет губить близкого Патриции человека? Да возможно ли это? Или он всего лишь принимает желаемое за действительное?
Но, по счастью, вскоре он с головой ушел в работу над «Человеком», и это оказалось наилучшим способом совладать с гнетущей тревогой. Два месяца подряд он занимался подготовительным периодом — вносил изменения в режиссерский сценарий, выбирал места натурных съемок, смотрел макеты декораций и эскизы костюмов, репетировал с актерами и сам не понимал, что выглядит в глазах группы каким-то маньяком, пока Слим не сказал ему:

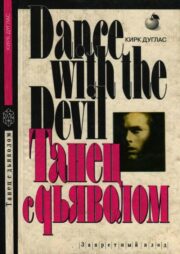
"Танец с дьяволом" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец с дьяволом". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец с дьяволом" друзьям в соцсетях.