Она выбрала Краков и вскоре уехала туда, оставив Любу на попечение сестры в деревне. На прощание она купила ей зеленые замшевые туфельки и пообещала выписать ее к себе через месяц. Однако, когда пришло время уезжать, Люба села в поезд с тяжелым сердцем — в Бродках снова гастролировал цирк, притягивавший ее к себе, как магнит, а она уезжала из маленького городка, где прошли первые девять лет ее жизни. Она закрыла глаза, когда за окном вагона появились ярко раскрашенные цирковые фургоны. Ей так хотелось оказаться там, среди артистов, увидеться с Йозефом и его труппой… Поезд набирал ход, и скоро фургоны скрылись из вида.
Магда встречала ее на платформе краковского вокзала. Увидев дочку с дешевеньким фибровым чемоданчиком, куда поместились все ее пожитки, она бросилась к ней и крепко обняла.
— Любочка! Девочка моя! — Магда плакала от радости.
А Люба не плакала: она смотрела на высокие дома — такие высокие, что верхние этажи были скрыты в туманной дымке, непонятно было, как это они не рухнут. И сколько машин! Магда за руку вела ее по аллее. Начинало смеркаться, зажглись фонари, которых она в Бродках не видела.
Мать говорила без умолку и продолжала всхлипывать. Люба не понимала, с чего это она так расчувствовалась.
— Ты все молчишь — наверно, устала с дороги! Сейчас, сейчас придем, я тебя покормлю и спать положу…
Люба только сейчас заметила, как изменилась мать — губы и ресницы накрашены, вырез блузки открывает высокую грудь. Совсем другой стала она в этом Кракове.
— Какая ты красивая, — потрясенно сказала Люба.
— Ах, спасибо, доченька! И ты очень хорошо выглядишь, я так рада, что мы снова вместе! Что бы тебе хотелось съесть на ужин?
— Мне вообще есть не хочется.
— Ну тогда сразу ляжешь спать, а с утра пойдем гулять, я покажу тебе Краков.
Любе нравилось, что мать говорит с ней, скорее как с подругой. Пока они шли, Магда без конца здоровалась со встречными мужчинами, кому-то улыбалась, кому-то помахивала рукой. Видно, у нее тут много поклонников. Люба гордилась, что у нее такая привлекательная мама.
— Уже близко.
Они миновали высокие бетонные здания, стоявшие вперемежку со старинными домами в стиле барокко, и вышли на вымощенную булыжником площадь, закрытую для машин. Там теснились бесчисленные палатки и лотки, а посреди высилось здание причудливой архитектуры — это был знаменитый рынок, где покупал себе одежду еще Коперник. Люба испуганно прижалась к Магде при виде страшных каменных фигур на крыше.
— Не бойся, — засмеялась Магда, — они называются «химеры».
Любу ошеломил этот водопад новых ощущений: звучала разноязычная речь и музыка, звенела посуда в открытых кафе, пахло свежим кофе.
Наконец они подошли к обшарпанному трехэтажному дому, по лестнице с выщербленными каменными ступенями и ржавыми перилами поднялись наверх, в маленькую комнату. У одной стены стояла старомодная железная, кровать, к другой был придвинут топчан, а посредине Люба увидела комод, а на нем — плитку. Ванная и уборная находились в конце коридора. Магда поставила чемодан на пол.
— Вот на этом диванчике и будешь спать. Давай-ка разложим твои вещички, а то мне скоро уходить на работу.
— А где ты работаешь? — спросила Люба.
— Комнатка, конечно, маленькая, но ничего: в тесноте, да не в обиде, правда? — сказала Магда, не отвечая на ее вопрос.
— Иди, мама, а то опоздаешь. Я сама распакую чемодан.
Та посмотрела на нее:
— Справишься?
— Не беспокойся.
Слезы опять выступили у Магды на глазах, она крепко прижала к себе дочь.
— Ах, девочка моя, как хорошо, что ты со мной. Я так скучала по тебе.
— А я — по тебе.
— Скоро накопим денег, выберемся отсюда, найдем папу, и снова будем все вместе.
Любе что-то мешало разделить эту надежду.
— И будет чудесно, правда?
— Правда, мама.
Магда чмокнула ее в щеку.
— Вещи свои повесь вот сюда, а потом ложись, — и еще раз поцеловала.
Люба слышала, как по каменным ступеням, цокают, постепенно замирая, мамины каблучки. Потом огляделась. На комоде стояла фотография мужчины с девочкой на коленях — это отец снялся с нею, когда она была еще маленькой. Она присела на топчан, стараясь осмыслить все, что с ней случилось. Вечер был теплый, в открытое окно врывался, накатывая, как прибой, шум большого города.
Она разделась и подошла к треснутому зеркалу на комоде, посмотрела на себя. Прижала руки к груди, пощупала. Что-то уже есть! Но когда еще у нее будут такие полные и красивые груди, как у матери! Она надела ночную рубашку, легла в постель, стала прислушиваться к незнакомым звукам, вспоминать Йозефа. Интересно, а он ее вспоминает? Потом подумала о Феликсе, улыбнулась. Кто-то теперь играет с его «большим пальцем»? Наверно, нашел кого-нибудь. Ей не спалось, хотя она устала с дороги, и долго лежала с закрытыми глазами, чувствуя, как несутся, обгоняя друг друга, мысли в голове… Потом увидела, что летит по синему небу, и только успела испугаться, как крепкие руки Йозефа подхватили ее. Она прижалась к его широкой груди — с ним так надежно и уютно…
Ее разбудил тихий скрип двери. Шагов она не слышала. «Мама, я не сплю», — хотела сказать она и вдруг увидела в полуосвещенном дверном проеме не одну, а две фигуры. Она узнала Стаха, гида из туристического бюро, который разговаривал с Магдой на улице.
— Т-с-с, не разбуди ее, — услышала она шепот матери.
Люба видела, как они подошли к кровати, обнялись. Зашуршала одежда, раздался сдавленный шепот, но слов она разобрать не смогла. Потом мать тихо засмеялась. Люба лежала неподвижно, всматриваясь в полутьму. Они разделись, Магда села на край кровати, откинулась назад на локтях, а Стах опустился перед ней на колени, голова его скрылась между ее раздвинутых бедер. Как жалко, что в комнате темно!
Потом они легли. Люба прислушивалась к странным звукам, долетавшим с кровати, видела смутные очертания их переплетенных тел. Раздались приглушенные стоны, тяжелое дыхание… Потом все стихло.
Через некоторое время раздался негромкий храп. Когда Люба открыла глаза, комната была залита солнцем. Мать спала, и рядом с ней в постели никого не было. О ночном госте не было сказано ни слова.
Два дня они гуляли по Кракову, ели сахарную вату, пили ситро, пересмеивались друг с другом. Мать купила ей новую школьную форму — платьице с белым отложным воротничком, черный блестящий передник — и ранец. Каникулы скоро кончились: утром Люба вскочила, торопливо оделась, боясь опоздать в школу. Она надеялась, что там у нее появятся новые друзья. Магда заплела ей две тоненькие косички, завязала белые банты и попела в школу, стоявшую неподалеку от старого костела. В дверях, как часовой, стоял высокий молодой ксендз в длинной черной сутане. Тонкое узкое лицо его, по контрасту с густыми черными бровями, казалось особенно бледным.
Сама школа размещалась в недавно выстроенном доме и была раза в четыре больше школы в Бродках. По двору носились, хохоча, дети всех возрастов. Люба постепенно освоилась и вошла. Мать поцеловала ее на прощание и заторопилась по своим делам. Люба, предвкушая, как она будет играть с детьми, подходила все ближе. Внезапно, как из-под земли, перед нею выскочила рослая толстая девочка и, скривившись от омерзения, крикнула:
— А твоя мать — потаскуха!
Мужчины, которых приводила Магда, часто менялись. Люба редко спала во время этих посещений. Она испытывала смущение и какую-то странную радость одновременно. Но иногда мать вовсе не приходила ночевать, и тогда Люба, чтобы не было скучно и тревожно, принималась рисовать на первом попавшемся клочке бумаги. И постепенно каракули сменились искусно нарисованными каруселями и сказочными конями со звездами вместо глаз и полумесяцем во лбу.
Просыпаясь утром, она заставала мать еще спящей, быстро одевалась и бежала в школу, которую ненавидела. История нагоняла на нее смертную тоску — какое ей было дело до Марии Склодовской-Кюри, открывшей свойства радиоактивности, или до Юрия Гагарина, который первым побывал в космосе? А к чему ей учить русский язык с его непонятным алфавитом, если она умеет говорить и писать по-польски? Люба томилась, скучала, и чувствовала себя страшно одинокой. Только раз одноклассница пригласила ее в гости — один-единственный раз. Родители других детей не желали, чтобы они водились с дочерью проститутки и изменника.
Иногда по утрам, чтобы не видеть опостылевшей школы, она шла в церковь, спокойно сидела на задней скамье, вдыхала густой запах ладана и строила фантастические планы побега к Йозефу и друзьям-циркачам. И все же каждое утро она заставляла себя тащиться знакомой дорогой в школу.
Часы на колокольне пробили семь. Школьный двор, залитый мягким утренним светом, был пуст и казался заброшенным. Гулко раскатился последний удар курантов. До начала уроков еще целый час. Люба вошла в открытые двери костела. Перед алтарем стоял на коленях молодой ксендз. Люба уселась на заднюю скамейку, тоже попробовала молиться. Неожиданно слезы хлынули у нее из глаз.
Потом она ощутила чью-то твердую руку у себя на плече.
— Что с тобой, дитя мое? — прозвучал ласковый голос.
Ответить Люба не могла. Она встала и направилась к выходу.
— Ступай за мной, — сказал ксендз. Обняв ее за плечи, он повел ее к алтарю, там остановился, простерся на полу, потом поднялся, ввел ее в ризницу и закрыл за собой дверь. В маленькой комнатке не было ничего, кроме стола, двух стульев и множества книг. Ксендз усадил Любу и сел напротив.
— Господь поможет тебе, — кротко произнес он.
Люба, сотрясаясь от неистовых рыданий, излила ему душу.
— Я хочу убежать отсюда!.. Мне здесь все ненавистно! Я хочу поступить в цирк, хочу быть с Йозефом!
Ксендз слушал ее не перебивая. Люба опустилась на пол, прижалась лбом к его коленям. Он гладил ее по голове, и от этих прикосновений она чувствовала себя под защитой и в безопасности.
— На все воля Божья, дитя мое, — голос его обладал магическим воздействием — сами собой высохли слезы, исчезли горечь и обида.
Он продолжал гладить ее голову, лежащую у него на бедре. Люба успокоилась и испытывала к нему чувство благодарности.
Внезапно она ощутила щекой что-то твердое и улыбнулась, вспомнив дядю Феликса. Вот как можно отплатить ксендзу за его доброту. Она стала медленно двигать головой из стороны в сторону. С губ молодого священника сорвался слабый стон.
Он резко поднялся. Лицо его пылало.
— Ступай с Богом, — проговорил он, осенив ее крестным знамением.
Она ничего не понимала — почему он ни с того, ни с сего прогоняет ее? — но покорно вышла из костела и направилась в школу. На следующее утро, когда куранты пробили семь раз, она уже была в церкви. Но там было пусто. В высоких и узких окнах плясали в солнечных лучах пылинки. Люба присела на скамью, намереваясь дождаться ксендза. Ей хотелось с ним поговорить — ведь он так помог ей вчера… Она ждала до тех пор, пока не прозвонил школьный звонок, но ксендз так и не появился. Она выбежала из костела и чуть было не опоздала на урок, вбежав в класс в последнюю минуту.
Наутро она снова пришла в костел пораньше и застала ксендза, но он был так поглощен молитвой у алтаря, что не заметил ее. Люба подошла поближе. Священник вскочил, перекрестился и скрылся в ризнице.
Люба была растеряна: разве она что-то делает не так? Ей казалось, что глаза распятого Христа устремлены прямо на нее. Глубоко вздохнув, она подошла к двери ризницы, поскреблась в нее, тихо позвала. Никто не отозвался. Она постучала, зная, что он там. Тишина. Она повернула ручку — дверь была заперта.
Итак, ее снова отвергли. Но больше плакать она не станет.
Магде очень не нравилось, что Люба столько времени предоставлена самой себе, но и водить клиентов домой ей не хотелось. Однако делать было нечего: она была на заметке у властей как жена изменника родины, а потому ни на одном государственном предприятии ее не брали на работу. В немногих частных ресторанчиках и кафе работали, как правило, родственники и друзья владельцев. На жизнь можно было заработать одним-единственным способом. Конкуренция была высока: многие женщины продавали себя за иностранные вещи или за доллары.
Люба, лишенная друзей и подружек, томилась, скучала и, наконец, упросила Магду взять ее с собой на рынок. Там было весело: гремела музыка, было людно и шумно.
Магда поначалу пыталась оберегать ее от мужчин, норовивших ущипнуть или обнять Любу, но вскоре поняла, что именно близость юной свежей плоти разжигает их и заставляет раскошеливаться. Любу не пугало, когда ее тискали или прижимали, наоборот, мужское внимание ей льстило. Магда поняла, что «быть близ сажи и не замараться» двенадцатилетняя Люба не сможет. Удерживать ее от непоправимого шага становилось все трудней.

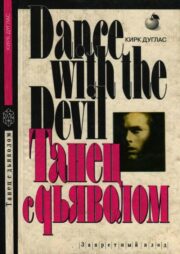
"Танец с дьяволом" отзывы
Отзывы читателей о книге "Танец с дьяволом". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Танец с дьяволом" друзьям в соцсетях.