Я рею жизнь отгораживался от людей и своих немногих друзей выбирал очень тщательно. И вот на войне я узнал, что создал себе мир, населенный выдуманными людьми. Война открыла мне, каковы люди на самом деле, но не научила меня жить с ними. И боюсь, никогда этому не научусь. Что ж, я понимаю, что должен кормить жену и ребенка и мне придется для этого прокладывать себе путь в мире людей, с которыми у меня нет ничего общего. Вы, Скарлетт, хватаете жизнь за рога и поворачиваете ее туда, куда хотите. А мое место в жизни — где оно теперь? Говорю вам: я боюсь.
Тихий голос его звенел от напряжения, а Скарлетт, ничего не понимая, в отчаянии пыталась зацепиться хотя бы за отдельные слова и составить из них какой-то смысл. Но слова ускользали, разлетались, как дикие птицы. Что-то терзало Эшли, жестоко терзало, но она не могла понять, что именно.
— Я и сам не знаю, Скарлетт, когда я толком понял, что моему театру теней пришел конец. Возможно, в первые пять минут у Булл-Рэна, когда я увидел, как упал первый простреленный мною солдат. Но я знал, что все кончено и я больше не могу быть просто зрителем. И я вдруг обнаружил, что нахожусь на сцене, что я — актер, гримасничающий и попусту жестикулирующий. Мой внутренний мирок рухнул, в него ворвались люди, чьих взглядов я не разделял, чьи поступки были мне столь же чужды, как поступки готтентотов. Они грязными башмаками прошлись по моему миру, и не осталось ни единого уголка, где я мог бы укрыться, когда мне становилось невыносимо тяжело. Сидя в тюрьме, я думал: «Вот кончится война, и я вернусь к прежней жизни, к моим старым мечтам, в свой театр теней». Но, Скарлетт, возврата к прошлому нет. И то, с чем столкнулись мы сейчас, — хуже войны и хуже тюрьмы, а для меня и хуже смерти… Так что, как видите, Скарлетт, я несу наказание за свой страх.
— Но, Эшли, — начала она, все глубже увязая в трясине непонимания, — если вы боитесь, что мы умрем с голоду, так почему же.., почему… Ах, Эшли, не волнуйтесь: мы как-нибудь справимся! Я знаю, что справимся.
На секунду взгляд его вновь обратился на нее, и в серых глазах, широко раскрытых и ясных, было восхищение. А потом они снова стали отчужденными, далекими, и сердце у Скарлетт упало — она поняла: он думал не о том, что они могут умереть с голоду. Вечно они говорят на разных языках. Но она так любила его, что, когда он замыкался в себе, как сейчас, ей казалось, будто теплое солнце ушло с небосклона и она осталась в холодном сыром полумраке. Ей хотелось схватить его за плечи, привлечь к себе, заставить наконец осознать, что она живая, а не вычитанная им или вымечтанная. Вот если бы вновь почувствовать, что они — одно целое, как в тот давний день, когда он вернулся домой из Европы, стоял на ступеньках Тары и улыбался ей.
— Голодать — не очень-то приятно, — сказал он. — Я это знаю, потому что голодал, но я не боюсь голода. Я боюсь жизни, лишенной неспешной красоты нашего мира, которого уже нет.
Скарлетт в отчаянии подумала, что Мелани поняла бы его. Эшли с Мелани вечно болтают о всяких глупостях — стихи, книги, мечты, лунный свет, звездная пыль… Ему не страшно то, что страшит ее, Скарлетт, — не страшны режущие боли в голодном желудке, пронизывающий зимний ветер, выселение из Тары. Его терзает какой-то иной страх, которого она никогда не знала и не может вообразить. Честное слово, ну чего в этом мире еще бояться, если не голода, холода и возможности лишиться крова?
А ведь ей казалось, что если она будет внимательно слушать Эшли, то поймет его.
— Вот как?! — произнесла она, и в голосе ее прозвучало разочарование ребенка, который, развернув яркую бумажную обертку, обнаружил, что внутри ничего нет.
При этом возгласе Эшли печально улыбнулся, как бы прося у нее прощения.
— Извините меня, Скарлетт, за все, что я тут наговорил. Вы не можете меня понять, потому что не знаете страха. У вас сердце льва, вы начисто лишены воображения, и я вам завидую. Вас не страшит встреча с действительностью, и вы не станете бежать от нее, как я.
— Бежать!
Казалось, из всего им сказанного это было единственное слово, которое она поняла. Значит, Эшли, как и она, устал от борьбы и хочет бежать. Она чуть не задохнулась.
— Ох, Эшли, — вырвалось у нее, — как вы не правы! Я тоже хочу бежать. Я тоже от всего этого устала!
Он в изумлении поднял брови; в эту минуту она своей горячей рукой схватила его за плечо.
— Послушайте меня, — быстро заговорила она; слова полились неудержимым потоком, подгоняя друг друга. — Я же говорю вам: я тоже от всего этого устала. До смерти устала и не желаю больше так жить. Я боролась за каждый кусок хлеба, за каждую лишнюю монету, я полола и рыхлила мотыгой, и собирала хлопок, я даже пахала, а потом вдруг поняла, что не желаю больше так жить — ни минуты. Говорю вам, Эшли: Юг умер! Умер! Янки, вольные негры и «саквояжники» стали здесь хозяевами, и для нас ничего не осталось. Эшли, бежим отсюда!
Он наклонился к ней и впился взглядом в ее пылающее лицо.
— Да, давайте убежим — бросим их всех! Устала я гнуть спину на других. Кто-нибудь о них позаботится. Когда люди сами не могут заботиться о себе, всегда ведь находится кто-то, кто берет на себя заботу о них. Ах, Эшли, давайте убежим, убежим вдвоем — вы и я. Мы могли бы уехать в Мексику — мексиканской армии нужны офицеры, и мы могли бы быть так счастливы там. Я буду работать на вас, Эшли. Я для вас горы сверну. В глубине души вы сами знаете, что не любите Мелани…
На лице его отразился испуг, изумление, он хотел что-то сказать, но она не дала ему и рта раскрыть, обрушив на него поток слов. — Вы же сами сказали мне в тот день, — помните тот день? — что любите меня больше! И я знаю, что вы не изменились с тех пор! Я же вижу, что не изменились! Вот только сейчас вы говорили, что она для вас как сон, как мечта… Ох, Эшли, давайте уедем! Я могла бы сделать вас таким счастливым. Ведь Мелани, — с жестокой откровенностью добавила она, — Мелани больше не сможет… Доктор Фонтейн сказал, что у нее никогда уже не будет детей, а я могла бы родить вам…
Он сжал ее плечи так крепко, что ей стало больно и она, задохнувшись, умолкла.
— Мы должны забыть тот день в Двенадцати Дубах.
— Да неужели вы думаете, что я могу его забыть?! Разве вы его забыли? Можете, положа руку на сердце, сказать, что вы меня не любите?
Он глубоко вобрал в себя воздух и быстро произнес:
— Да, могу. Я не люблю вас.
— Это ложь.
— Даже если и ложь, — сказал Эшли мертвенно-ровным, спокойным голосом, — обсуждать это мы не станем. — Вы хотите сказать…
— Да неужели вы думаете, что я мог бы уехать и бросить Мелани с нашим ребенком на произвол судьбы, даже если бы я их ненавидел? Мог бы разбить Мелани сердце? Оставить их обоих на милость друзей? Скарлетт, вы что, с ума сошли? Да неужели у вас нет ни капли порядочности? Вы ведь тоже не могли бы бросить отца и девочек. Вы обязаны о них заботиться, как я обязан заботиться о Мелани и Бо, и устали вы или нет, у вас есть обязательства, и вы должны их выполнять.
— Я могла бы бросить отца и девочек.., они мне надоели.., я устала от них…
Он склонился к ней, и с замирающим сердцем она подумала, что он сейчас обнимет ее, прижмет к себе. Но он лишь похлопал ее по плечу и заговорил, словно обращаясь к обиженному ребенку:
— Я знаю, что вы устали и все вам надоело. Поэтому вы так и говорите. Вы тянете воз, который и трем мужчинам не под силу. Но я стану вам помогать.., я не всегда буду таким никчемным…
— Вы можете помочь мне только одним, — хмуро произнесла она, — увезите меня отсюда и давайте начнем новую жизнь в другом месте, где, может быть, нам больше повезет. Ведь нас же ничто здесь не держит.
— Ничто, — ровным голосом повторил он, — ничто, кроме чести.
Она с глубокой нежностью смотрела на него и словно впервые увидела, какие золотые, цвета спелой ржи, у него ресницы, как гордо сидит голова на обнаженной шее, какого благородства и достоинства исполнена его стройная фигура, несмотря на лохмотья, в которые он одет. Взгляды их встретились — в ее глазах была неприкрытая мольба, его же глаза, как горные озера под серым небом, не отражали ничего.
И, глядя в эти пустые глаза, она поняла, что ее отчаянные мечты, ее безумные желания потерпели крах.
Разочарование и усталость сделали свое дело: Скарлетт уткнулась лицом в ладони и заплакала. Еще ни разу в жизни Эшли не видел, чтобы она так плакала. Он никогда не думал, что такие сильные женщины, как Скарлетт, вообще способны плакать, и волна нежности и раскаяния затопила его. Он порывисто шагнул к ней и через минуту уже держал ее в объятиях, нежно баюкая, прижав ее черную головку к своей груди.
— Милая! — шептал он. — Мужественная моя девочка… Не надо! Ты не должна плакать!
Он почувствовал, как она меняется от его прикосновения, стройное тело, которое он держал в объятиях, запылало, околдовывая; зеленые глаза, обращенные на него, зажглись, засияли. И вдруг угрюмой зимы не стало. В сердце Эшли возродилась весна — почти забытая, напоенная ароматом цветов, вся в зеленых шорохах и приглушенных звуках, — бездумная праздная весна и беззаботные дни, когда им владели желания юности. Тяжелых лет, выпавших за это время на его долю, словно и не бывало — он увидел совсем близко алые губы Скарлетт и, нагнувшись, поцеловал ее.
В ушах ее стоял приглушенный грохот прибоя — так гудит раковина, приложенная к уху, — а в груди глухо отдавались удары сердца. Их тела слились, и время, казалось, перестало существовать — Эшли жадно, неутолимо прильнул к ее губам.
Когда же он наконец разжал объятия, Скарлетт почувствовала, что колени у нее подгибаются, и вынуждена была ухватиться за ограду. Она подняла на него взгляд, исполненный любви и сознания своей победы.
— Ведь ты же любишь меня! Любишь! Скажи это, скажи! Он все еще продолжал держать ее за плечи, и она почувствовала, как дрожат его руки, и еще больше полюбила его за это.
Она снова пылко прильнула к нему, но он отстранился, и взгляд его уже не был отрешенным — в нем читались борьба и отчаяние.
— Не надо! — сказал он. — Не надо! Перестань, иначе я овладею тобой прямо здесь, сейчас.
Она только улыбнулась в ответ — бездумно, жадно: не все ли равно, когда и где, — важно, что он целовал ее, целовал.
Внезапно он встряхнул ее, встряхнул так сильно, что ее черные волосы рассыпались по плечам, и продолжал трясти, точно вдруг обезумел от ярости на нее — и на себя.
— Не будет этого! — сказал он. — Слышишь: этого не будет! Ей казалось, что голова у нее сейчас оторвется, если он еще раз так ее встряхнет. Ничего не видя из-за упавших на лицо волос, оглушенная этим внезапным взрывом, она наконец вырвалась из рук Эшли и в испуге уставилась на него. На лбу его блестели капельки пота, руки были сжаты в кулаки, словно от невыносимой боли. Он смотрел на нее в упор и будто пронизывал насквозь своими серыми глазами.
— В том, что случилось, виноват я — и только я один, и этого никогда больше не повторится: я забираю Мелани с ребенком и уезжаю.
— Уезжаешь? — в ужасе воскликнула она. — Ох, нет!
— Клянусь богом, да! Неужели ты думаешь, что я останусь здесь после того, что произошло? Ведь это может произойти опять…
— Но, Эшли, ты же не можешь так вот взять и уехать. И зачем тебе уезжать? Ты же любишь меня…
— Ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Хорошо, скажу. Я люблю тебя. — Он резко наклонился к ней; в его лице появилось такое исступление, что она невольно прижалась к ограде. — Да, я люблю тебя, люблю твою храбрость и твое упрямство, твою пылкость и твою безграничную беспринципность. Сильно ли я тебя люблю? Так люблю, что минуту назад чуть не попрал законы гостеприимства, чуть не забыл, что в этом доме приютили меня и мою семью и что у меня есть жена, лучше которой не может быть на свете.., я готов был овладеть тобой прямо здесь, в грязи, как последний…
Она пыталась разобраться в хаосе мыслей и чувств, обуревавших ее, а сердце холодело и ныло, словно пронзенное острой ледышкой. И она неуверенно пробормотала:
— Если ты так желал меня.., и не овладел мною.., значит, ты не любишь меня.
— Никогда ты ничего не поймешь.
Они стояли и молча смотрели друг на друга. И вдруг Скарлетт вздрогнула и, словно возвращаясь из далекого путешествия, увидела, что на дворе зима, голые поля ощетинились жнивьем; она почувствовала, что ей очень холодно. Увидела она и то, что лицо Эшли снова приняло обычное отчужденное выражение, которое она так хорошо знала, что и ему тоже холодно, и больно, и совестно.
Ей бы повернуться, оставить его, укрыться в доме, но на нее вдруг навалилась такая усталость, что она просто не могла сдвинуться с места. Даже слово сказать было тяжело и неохота.
— Ничего не осталось, — произнесла она наконец. — У меня ничего не осталось. Нечего любить. Не за что бороться. Ты уходишь, и Тара уходит.
Эшли долго смотрел на нее, потом нагнулся и взял пригоршню красной глины.

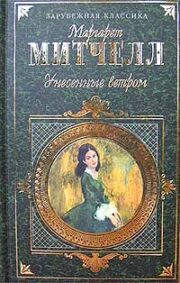
"Унесенные ветром. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Унесенные ветром. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Унесенные ветром. Том 2" друзьям в соцсетях.