Он сидел на корточках напротив дюжины никелированных ручек и казался от этого выше, чем был на самом деле.
— У меня есть «Тоска», — произнес он все так же торжественно.
Я обратила внимание на странную манеру этого человека всем гордиться. Не только своей аппаратурой, которая действительно была великолепной, но даже и Тебальди. А может быть, я попала на первого богача, научившегося получать реальную радость от своих денег. И если дело обстояло именно так, то это свидетельствовало о его больших душевных силах. Я знала, что богатые люди под извечным и порядком надоевшим предлогом, что деньги подобны обоюдоострому мечу, предпочитают говорить о тех ранах, которые они им наносят. Из-за своего богатства они считают, что люди заискивают перед ними или избегают их общества, но в любом случае завидуют. И что бы они ни приобретали, благодаря своим деньгам, это не доставляло им истинного удовольствия. Когда они были щедры, их не покидало чувство, что их обманывают. А когда они были недоверчивы, то утверждали, что уже не раз имели возможность самым грустным образом убедиться в обоснованности своих выводов. Но тогда, — может быть из-за выпитой водки, — мне казалось, что Юлиус А. Крам горд не столько своими финансовыми успехами, сколько тем, что, благодаря им, может без каких-либо шумов и шипов слушать безупречный и чистый голос Тебальди, женщины, которой он восхищался. В своей наивности он, наверное, так же гордился ловкостью своих секретарей, благодаря которым, ему удалось избавить очаровательную молодую женщину — то есть меня — от ужасной, по его мнению, судьбы.
— Когда вы собираетесь разводиться?
— А кто вам сказал, что я хочу развестись? — спросила я неприветливо.
— Но вы же не останетесь с этим человеком, — рассудительно произнес Юлиус. — Это же больной человек.
— А кто вам сказал, что я не люблю больных?
Отвечая таким образом, я злилась сама на себя. Раз я последовала так далеко за своим спасителем, то было бы естественно с моей стороны дать ему кое-какие объяснения. Но только мне не хотелось затягивать этот разговор.
— Алан не больной, — сказала я. — Он просто одержим. Он мальчик… мужчина, — быстро поправилась я, — который одержим одной страстью — ревностью. К сожалению, я поняла это слишком поздно. Хотя, возможно, в этом есть и моя вина.
— Да? И какая же? — прогнусавил Юлиус.
Он стоял передо мной подбоченясь и своим агрессивным видом очень напоминал адвокатов, которые выступают на громких американских процессах.
— Я не смогла избавить его от этого чувства. Он всегда ревновал меня, сомневаясь даже тогда, когда для этого не было никаких оснований. Наверное, я все время делала что-то не так.
— Просто он боялся, что вы покинете его, — сказал Юлиус. — Так боялся, что это наконец произошло. Логично?
Тебальди исполняла главную арию, и музыка, сопровождавшая ее изумительный голос, вызывала у меня странное желание разбить что-нибудь. И еще мне хотелось плакать. Кажется, мне действительно было необходимо выспаться.
— Вы, наверное, скажете, что это не мое дело… — начал Юлиус.
— Да, — рявкнула я, — это действительно не ваше дело.
Нет, он даже не почувствовал себя уязвленным. Он смотрел на меня с жалостью, словно я совершила бестактный поступок. Он сделал жест рукой, который, по всей вероятности, должен был означать «она сама не знает, что говорит», и окончательно вывел меня этим из себя. Я поднялась и сама налила себе еще водки. Нужно было расставить все точки над «и».
— Господин Крам, я не знаю вас. Мне известно только, что у вас есть деньги, что давным-давно вы чуть было не женились на англичанке, да еще то, что вы любите миндальные пирожные.
Он снова повторил свой жест. На этот раз это был жест здравомыслящего человека, столкнувшегося с безрассудным.
— Я также знаю, что по каким-то мне непонятным причинам вы интересуетесь мной, навели обо мне справки и прибыли вовремя, чтобы вытащить меня из неловкого положения. Я очень благодарна вам за это. Но на этом наши отношения заканчиваются.
Обессилев, я упала на диван и злобно уставилась на языки пламени, плясавшие в камине. На самом деле меня разбирал смех, потому что в то время как я произносила свою маленькую речь, Юлиус отступил на несколько шагов и стоял теперь между двух оленьих голов, которые совершенно не шли ему.
— Вы очень возбуждены, — заметил он.
— Еще как, — согласилась я. — Да и есть отчего. У вас найдется снотворное?
Он так содрогнулся, что я рассмеялась. По правде говоря, с самого своего приезда я постоянно бросалась в крайности: то плакала, то смеялась, то впадала в прострацию, то в гнев. Устав до кончиков ногтей, я мечтала теперь лишь о хорошей кровати, пусть в готическом стиле, куда я могла бы кинуть свои усталые кости. Мне казалось, что я смогу проспать трое суток.
— Не волнуйтесь, — сказала я Юлиусу. — У меня и в мыслях нет покончить жизнь самоубийством в вашем доме. Да и где бы там ни было вообще. Наверное, ваши секретари уже доложили, эти последние дни были для меня очень тяжелыми и мне совершенно не хочется о них говорить.
При слове «секретари» он поморщился, затем подошел и сел, скрестив ноги напротив меня. Я заметила, что у него очень большие ступни.
— Кроме секретарей, которые очень мне преданы, я говорил с вашими друзьями, которые, в свою очередь, очень преданы вам. И они очень беспокоились за вас.
— Ну теперь вы можете успокоить их, — заметила я иронически. — Теперь я в полной безопасности, по крайней мере на несколько дней.
Мы смотрели друг на друга с вызовом, смысл которого был мне непонятен. Что я тут делала? Что он себе вообразил? Что он хотел знать обо мне и почему? Так же, как в Салине, у меня начали дрожать руки. Мне нужно было как можно скорее лечь спать. Еще пару стаканов, несколько вопросов, и я разрыдалась бы на плече у этого незнакомца, который, может быть, только того и ждал.
— Не будете ли вы любезны показать мне мою комнату, — сказала я поднимаясь.
В сопровождении Юлиуса и дворецкого я вскарабкалась по лестнице и оказалась, как и предполагала, в готической комнате. Я пожелала им спокойной ночи, открыла окно, вдохнула свежего деревенского воздуха и пошла к кровати. Кажется, я уснула прежде, чем голова коснулась подушки.
5
На следующий день я, естественно, проснулась в прекрасном настроении: комната была такой же мрачной, ситуация скандальной, но что-то напевало во мне веселый мотив. Вечно у меня происходило все наоборот, словно я играла на рояле, позабыв о педалях, или нет — не позабыв, а нажимая на них как попало: приглушая симфоническую увертюру своего счастья и усиливая «Лунную сонату» меланхолических настроений. Рассеянная, когда нужно было радоваться, и веселая во времена неудач, я постоянно разочаровывала тех, кто любил меня. Это происходило совершенно бессознательно, просто иногда жизнь в своей простоте казалась мне такой смешной, что кто-то во мне буквально умирал от желания со всей силы хлопнуть крышкой рояля, как это иногда делают на концертах некоторые пианисты. Кто же из нас двоих причинил себе больше вреда? Я или Алан? Только он лежит сейчас, съежившись на диване, прикрыв глаза рукой и не слыша ничего, кроме стука своего сердца. А в пятидесяти километрах от него на роскошной кровати лицом вниз лежала я, лежала и слушала, как кричит птица. Она кричала всю ночь. Но кто же из нас двоих был более одинок? Какими бы тяжелыми ни были любовные муки, разве они страшнее одиночества? Полного одиночества, в котором нет даже эха. Я подумала о Юлиусе и рассмеялась. Если он рассчитывал поймать меня в свои сети и в соответствии с имиджем четкого и организованного делового человека уже отвел мне место на своей шахматной доске, то его ждут впереди большие разочарования. Веселый мотив все сильнее и сильнее звучал во мне. Я была еще молода, вновь свободна, нравилась мужчинам, а за окном был чудесный день. Нет, было бы глупо позволить кому-нибудь снова поймать меня в свои сети. Сейчас я встану, оденусь, позавтракаю, вернусь в Париж, найду себе какую-нибудь работу и встречусь с друзьями, которые обрадуются встрече со мной.
Открылась дверь, и в комнату вошел дворецкий, катя перед собой столик, на котором лежали тосты и полевые цветы. Он сообщил, что господин Крам уехал по делам в Париж, но вернется к завтраку, то есть примерно через час. Таким образом я узнала, что проспала четырнадцать часов. Я натянула старый свитер и новоприобретенный эгоизм, спустилась по лестнице и вышла во двор. Он был пуст. Лишь в окнах дома скользили тени. Царила атмосфера ожидания — все ждали хозяина дома. Да, по всей вероятности, жизнь Юлиуса А. Крама не была очень веселой. Я сходила на псарню, погладила трех собак — они полизали мне руки, — и я решила, вернувшись в Париж, тоже завести пса. Я буду заниматься им, гулять и кормить, и за это он не будет кусать меня за пятки и задавать лишние вопросы. А вообще-то эта ситуация, хотя она и прояснилась, вызывала у меня те же чувства, которые я испытала пятнадцать лет назад при выходе из пансиона. Но на этот раз я была более здравой. Почему-то всегда кажется, что с переменой жизни, возраста, сменой партнера ты переживаешь все иначе, чем в юности. На самом деле все повторяется. Только каждый раз все те же чувства: жажда любви, жажда быть свободной, инстинкт бегства, инстинкт погони или желание быть любимой кажутся иными. Наверное, это результат издержек памяти и наивных претензий к жизни.
Подойдя к дому, я тут же попала в конвульсивные объятия мадам Дебу. Я была настолько потрясена, что позволила ей поцеловать меня раза три, и, только оправившись, нагло спросила: «Что вы здесь делаете?»
— Юлиус мне все рассказал, — воскликнула судья хороших манер, специалистка по деликатным ситуациям. — Рано утром он позвонил мне и сообщил о вас. Вот я и приехала.
Она взяла меня под руку и повела по гравийной дорожке к дому. По пути она успокаивающе похлопывала меня по ладони. Она была одета в очень элегантный зеленовато-оливкового цвета костюм из замши, который очень неудачно подчеркивал на бледном солнце ее яркий городской макияж.
— Я знаю Юлиуса уже двадцать лет, — сказала она. — Он всегда был чрезвычайно приличен. Он не хотел, чтобы все это выглядело как похищение, какая-нибудь тайна, и позвонил мне.
В стиле «Трех мушкетеров» она была великолепна. Должно быть, приняв мое молчание за благодарность, она продолжала:
— Это нисколько не взволновало меня. Я должна была присутствовать на скучнейшем обеде у Лазаров… Мне очень приятно, что я могу оказать маленькую услугу вам обоим. — А где вход в эту лачугу? — добавила она очень громко и весело. Было прохладно, и она, наверное, сильно продрогла в своем зеленовато-оливковом костюме. Словно по мановению волшебной палочки дверь открылась, и появился меланхоличный дворецкий. Он посторонился в дверях, и мы вошли в дом.
— А здесь мрачновато, — заметила она, оглядывая комнату. — Можно подумать, что мы в Корнуэлле.
— Я никогда не была в Корнуэлле.
— Вы никогда не были у Бродерика? Бродерик Гранфильд. Нет? Так вот, там так же, как здесь: здравствуй, охота. Но там, в глуши, это выглядит более натурально, чем в пятидесяти километрах от Парижа.
Сказав это, она села и осмотрела меня. Она заявила, что я плохо выгляжу, но в этом не было ничего удивительного. Оказывается, она всегда считала Алана очень странным, как, впрочем, и все в Париже. А так как она дружила с моими родителями, то сильно беспокоилась за меня. Я с огромным удивлением внимала этому потоку откровений, ибо даже и не предполагала, что она была знакома с моими родителями. И когда под конец она заявила, что я возвращаюсь вместе с ней в город и что она даст мне на время пристанище у одной из своих невесток, которая сейчас живет в Аргентине, я лишь покорно кивнула головой.
Воистину Юлиус не переставал удивлять меня. Словно фокусник из рукава, он доставал шоферов-горилл, частных детективов, прилежных секретарей, невест-аристократок и даже дуэнью. Да еще какую! Женщину, чьи жестокие поступки — по количеству — могут сравниться с благотворительными. Женщину столь отвратительную, сколь и элегантную. Одним словом, женщину, какую в свете принято считать безупречной. Должно быть, Юлиус А. Крам обладал и впрямь немалым могуществом, если ему удалось заставить ее обратить на меня свое внимание и даже вмешаться. В конце концов я была в ее глазах лишь незнакомкой. Но потом были детство и юность, я уехала в Америку и вернулась оттуда в сопровождении элегантного молодого человека по имени Алан, о котором она знала лишь, что он американец, богатый и немного странный. А то, что Юлиус втюрился в меня, так это не страшно. Она еще посмотрит, что из меня сделать: приживалку или жертву.
Юлиус вернулся, как и обещал. Кажется, ему было приятно застать обеих своих дам, болтающими в уголке у камина. Он тепло поблагодарил мадам Дебу, и таким образом я узнала, что ее зовут Ирен. Затем он с гордостью посмотрел на меня. Его взгляд как бы говорил: «Ну что, я все предусмотрел». Мы говорили обо всем понемногу, то есть ни о чем конкретно, с тем тактом, который так свойственен воспитанным людям, когда они сидят за столом. Странная вещь, но присутствие тарелки, ножа и вилки, а также первой закуски обязывает цивилизованное существо к скромности и сдержанности. Но как только мы вышли из-за стола и перешли в салон, где нас ждал кофе, они тут же принялись обсуждать мое будущее. Итак, мне предстояло, по всей видимости, жить на улице Спонтини в квартире невестки Ирэн, пока адвокат Юлиуса господин Дюпон-Кормей начнет переговоры с Аланом. Но самое главное, в субботу мы должны были отправиться на гала-концерт в Оперу, который организовывала Ассоциация одиноких стариков или что-то в этом роде. Я сидела и слушала, как они говорят обо мне, словно о несмышленом ребенке. Поначалу это забавляло и удивляло, но затем я насторожилась. Неужели я и впрямь такая хрупкая, беззащитная и очаровательная женщина? Неужели я в самом деле нуждаюсь в их покровительстве? Существуют люди, которые находят себе повсюду защитников или родственников. И хотя вскоре эти родственники лишь вызывают раздражение, они не отступают. Их не смущает подобное отношение. А как же иначе, ведь они имеют дело с неблагодарным ребенком!

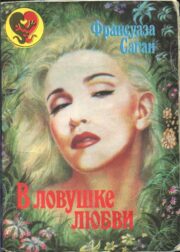
"В ловушке любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "В ловушке любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В ловушке любви" друзьям в соцсетях.