Были ли для этого основания? Ганс, конечно, презирал меня, ведь я была дочерью его истязателя. И кусок хлеба, который я принесла ему в ту ночь, наверное, комом стоял у него в горле. Но когда я понаблюдала за тем, как он обходится с лошадьми и один раз даже водрузил на спину одной из лошадей маленького мальчика, я совершенно уверилась в том, что мне не стоит его бояться. Разве он не давал клятву на Библии?
Ни за что на свете я не хотела отказываться от своих прогулок за пределы замка и пропускала мимо ушей все предостережения отца, Майи и патера Арнольда. И когда я напомнила отцу о нашем уговоре, то желание любой ценой узнать имя чужестранца перевесило тревогу за жизнь дочери; он оставил меня в покое. Ганс же хранил молчание. Однако мне показалось, что ему доставляет удовольствие выезжать за пределы замка. Один или два раза на его лице даже промелькнула улыбка, когда он думал, что я не смотрю на него. Но как я ни старалась, мне так и не удалось пробить стену его молчания.
И лишь моей сестре Эмилии удалось найти подход к несловоохотливому чужестранцу. Весной, когда чуть потеплело, она стала чувствовать себя лучше. Почувствовав себя немного окрепшей, она велела позвать Ганса, чтобы он отнес ее в сад. Его мрачное лицо посветлело, как только он переступил порог женских покоев. Он поднял ее на руки, чтобы вынести столь осторожно и бережно, что меня охватило необъяснимое чувство ревности. Внизу он усадил ее в кресле и поднес прописанные мастером Нафтали сок шандры и чай вероники. Под всевидящим оком Гизеллы он частенько оставался сидеть рядом с Эмилией. Казалось, она совсем не боялась его, даже отвратительные пресмыкающиеся на его руках не внушали ей отвращения, она могла коснуться изображений рукой или игриво вести пальчиком по изгибам нарисованных линий. Шутя, он уговаривал ее глотать горькие лекарства. А чай от кашля он выпивал с ней наперегонки. Я слышала, как он тихим голосом рассказывал ей всякие истории. Смех Эмилии звучал как колокольчик, высоко и чисто. Как и обещал, он вырезал из дерева куклу и раскрасил ее в разные цвета, а косы сделал из конского волоса.
— Я бы хотела, чтобы и у меня были такие же длинные волосы… — сказала Эмилия.
Она была очень рада и взволнованна. Ганс задумчиво вертел куклу в руках, поворачивая ее в разные стороны.
— А у моей младшей сестры волосы еще длиннее… — задумчиво произнес он.
— У тебя есть сестра?
Он кивнул. Я стояла, затаив дыхание, за ягодным кустом.
— Ее зовут Зигрун, и ее белокурые волосы спускаются ниже колен. Но я уже так давно не видел ее… — Он уперся рукой в подбородок и уставился в кустарник. — Когда мы были детьми, мы очень любили прятаться в пещерах. Я брал ее за длинную косу, чтобы не потерять в темноте. Став старше, она начала укладывать косу вокруг головы, чтобы она не мешала ей при стрельбе из лука. Мы вместе ходили на охоту и однажды даже убили лося.
— Что такое лось?
— Он выглядит, как олень, но у него большие широкие, похожие на лопату и очень тяжелые рога. Он может быть агрессивным и может наброситься на человека, если почувствует, что на него охотятся. Но Зигрун ни капельки его не боялась. — Он печально улыбнулся. — Она была очень мужественной и красивой.
— Такой, как моя сестра? — бесцеремонно спросила Эмилия.
Глупая Эмилия! Ганс повернул голову и задумчиво посмотрел на нее.
— Возможно, — загадочно произнес он.
— Когда-нибудь ты возьмешь меня с собой в свою страну? Мне так хочется увидеть лося. Покажешь мне его?
Он осторожно накрыл ладонью ее пальцы.
— Когда солнце взойдет на Западе и твои щеки наконец порозовеют, meyja,[6] вот тогда я и покажу тебе лосей.
— Когда это будет, Ганс? — Эмилия закрыла глаза.
— Скоро, meyja, скоро.
Ганс убрал с ее лица прядь волос и поправил на ее голове венок, который они вместе сплели из маргариток. Мне бросилось в глаза то, что Ганс намотал на запястье кожаные путы, которые я порезала тогда в зале. Может, для того, чтобы никогда не забывать о дне своего порабощения?
Он оставался рядом с Эмилией даже тогда, когда она засыпала. Я боялась пошевелиться и, можно сказать, обрадовалась приходу Гизеллы, которая снова отправила его на конюшню. Улыбка моментально исчезла с его лица, когда он увидел меня у стены женской башни.
— Опять шпионите за мной, графиня?
— Что за ерунду ты говоришь моей сестре? Ты наверняка понимаешь…
— Да, я понимаю, — несдержанно оборвал он меня на полуслове. — Вы действительно считаете, что было бы лучше рассказывать умирающему ребенку истории про преисподнюю и чистилище?
Произнеся это, он ушел, оставив меня одну. Испуганно я смотрела ему вслед. И неожиданно почувствовала зависть к улыбке Эмилии, которая имела над Гансом такую силу.
Глава 3.
Много я рассказал, но мало ты помнишь: друг тебя предал; вижу я меч прежнего друга, кровью покрыт он.
— Что за причуда — из-за дурацкого медового пирога скакать в это змеиное гнездо! Наверное, вы совсем сошли с ума! Будто на вашей кухне нет сладких блюд! — проворчал мой спутник-богатырь и добавил что-то на своем языке. Его лошадь беспокойно мотала головой, и хлопья пены разлетались во все стороны, когда Ганс с силой натягивал узду.
Разве я обязана отчитываться перед этим мужиком?
— Эмилия любит такой пирог. Господи, помилуй, я рада, что она вообще хоть что-то ест… но ты — ты совсем не думаешь и ничего не соображаешь своим варварским черепом!
Мои последние слова прозвучали злым укором, и я с гневом взглянула на него. Лицо его не выдавало волнения, а глаза были как ледяные озера. Злость холодным душем окатила меня с головы до ног.
— Не нужно считать меня дураком, фройляйн.
— Тогда держи язык за зубами, варвар!
Мне с трудом удавалось держать в узде свою лошадь. Пресвятая Дева Мария, зачем я затеяла с ним эту словесную перепалку? Страх перед мужчиной, который, несмотря на все наши совместные прогулки, так и оставался для меня чужим, с новой силой поднялся во мне, но я сумела взять себя в руки. Только не показывать свою слабость.
— И вообще ты не имеешь права говорить такое…
Конь, нервничая, приплясывал, пытаясь встать на дыбы, и Гансу приходилось с силой натягивать уздечку, чтобы заставить животное стоять спокойно.
— Почему я не имею права? — агрессивно спросил он.
Я вскинула голову.
— Тебе вообще не должно быть никакого дела до того, что и почему я делаю. Ты обречен на беспрекословное повиновение…
Его пальцы цепко обхватили мою руку.
— Повиноваться вам? — Он чуть не поперхнулся от возмущения. — Повиноваться вам, графиня, если честно, позвольте сказать, это самое тяжелое испытание в моей жизни! Kvennskrattinn pinn![7] Поклоняясь молоту всемогущего бога грома и плодородия Тора, мужчине пристало заниматься другими делами, а не быть придворным шутом для женщин, а именно для вас! — прошипел он и с силой пришпорил лошадь, которая галопом понеслась прочь.
— Черт бы побрал тебя и твои наглые, бессовестные речи! — прокричала я ему вдогонку и опять разозлилась, потому что не смогла дать достойный отпор его дерзости.
Ганс, очевидно, понимал, как много свободы дает мне его существование рядом в моей столь однообразной, не богатой событиями жизни. Его умение обращаться с лошадьми, ладить с ними, его сверхъестественное предчувствие надвигающейся опасности и непоколебимое спокойствие сделали его бессменным сопровождающим всех моих прогулок. И в то же время мне приходилось терпеть все учащающиеся с его стороны обидные, оскорбительные выходки. Он не скрывал, как ему претит его место конюха. И почему он был так уверен в том, что я его не выдам? Было невыносимо сознавать свою зависимость от него, тем более что мне так и не удалось ничего узнать о его происхождении. Ганс стоически молчал и не отвечал ни на один вопрос, а мой отец постепенно терял терпение. Если бы отец только узнал, какое неуважительное отношение выказывает раб его дочери, он не медля бросил бы Ганса в темницу, где тот погиб бы как собака. Порой я уже была почти готова открыть отцу правду. Но была ли эта свобода только моей свободой, от которой я так зависела? Его молчание вынуждало меня все время пытаться разговорить его, но все мои попытки натыкались на стену неприятия. Наряду с высокомерием и дерзостью, которые меня так злили, он излучал нечто такое, что я не могла выразить словами, и я смирилась и перестала с этим бороться. Тревога поселилась в моем сердце с тех самых пор, как Ганс появился рядом, и я не была уверена, следует ли исповедаться в этом патеру Арнольду. Черт с ним, раздосадованно думала я.
Он остановил свою лошадь на просеке и поджидал меня. Высокомерное выражение его лица вновь вызвало у меня злость.
— Как ты вообще осмелился обвинять меня? — в гневе выпалила я. — Кто должен был драться? Когда я узнала об этом, ни один человек не заметил, что люди из Зассенберга в Хаймбахе. Вместо того…
Ганс не дослушал до конца мою речь, а, с силой пришпорив свою лошадь, исчез за деревьями. Ветви, которые он обычно придерживал или срезал, били меня по лицу, в то время как я скакала вслед за ним. Колючки царапали мне руки, а конь противился моему желанию идти быстрее, так как не привык к прогулкам без рыжего мерина моего конюха. Я в бессилии отпустила поводья.
Лишь только вдали показался замок, Ганс вновь оказался на своей лошади рядом со мной. Когда рядом появлялись люди, он становился очень осторожен. Он совсем не хотел быть наказанным за небрежность.
Наши лошади шли шагом. Потихоньку, чтобы Ганс не видел, я отламывала по кусочку от причины нашего раздора — знаменитого медового пирога, испеченного пекарем Йозефом. Раньше он жил в одной из наших деревень, и Эмилия пристрастилась к его выпечке. Но однажды отцу перестал нравиться длинный нос пекаря, и он недолго думая прогнал беднягу из графства. Пекарь сбежал со своей семьей в Хаймбах под защиту нашего соседа и заклятого врага отца, графа Клеменса фон Хаймбаха. За последнее время отношения между графами ухудшились, и никто не соглашался поехать за пирогом для больной Эмилии. Мне пришлось под предлогом охотничьей прогулки поехать в лес и только там объясниться со своим провожатым об истинной цели поездки. Ганс был вне себя от возмущения. К счастью, большую часть его тирад я не понимала — насколько они лестны, красноречиво говорили его жесты, от которых шарахались даже лошади. Ему удалось основательно испортить всем нам этот весенний день.
Я мельком взглянула на него со стороны. Лицо его все еще было бледным и казалось непроницаемым. Быть может, его мысли, как и мои, были до сих пор заняты произошедшим?
По прибытии в Хаймбах я оставила Ганса с лошадьми в доме одного трактирщика, чтобы самой пойти за пирогом. Уже это вызвало его несогласие, он крепко ухватился за мою накидку и спросил, нежели я намерена отправиться туда в мужской одежде… Я просто вырвалась и ушла. Его плохое настроение действовало мне на нервы.
Был ярмарочный день, и в город пришло много народа, местные и чужие, купцы, крестьяне… Попрошайки, фокусники, жонглеры толклись у ярмарочных рядов. Несколько прокаженных топтались у церкви в надежде на богатые подаяния. Но большинство лишь наблюдали за ними со смешанным чувством отвращения, страха и сострадания. С прилавков то с одной, то с другой стороны в тряпичные мешки падали то кусок хлеба, то яблоко, и прокаженные благодарили за милостыню, бормоча молитву, прежде чем поковылять дальше. Меня охватило любопытство, и я заглянула под лохмотья. Говорили, что у них гниют и даже отваливаются конечности и другие части тела, потому что они много грешили. Рассказывали о провалившихся носах и страшных дырах на лице, через которые виден мозг несчастного. Когда они проходили мимо меня по порталу, я достала масляный крендель, купленный в одном из торговых рядов, и протянула его больному человеку высокого роста, подволакивающему ногу. Но тут из порванной в клочья одежды высунулась рука, обмотанная грязным тряпьем, из которого виднелись лишь три пальца, и схватила крендель, умудрившись даже не коснуться меня. Пока другие проходили, громыхая при ходьбе и распевая псалмы, высокий человек остановился и поднял голову. Лохмотья его капюшона позволяли увидеть лишь его правый глаз. Голубой и незамутненный, словно небо, он, казалось, испытывал триумф, несмотря на грязь и болезнь.
— Благослови вас Господь, dame chiere, и пусть он дарует вам жизнь долгую…
В моей руке оказалась маргаритка, и только запах гниющей человеческой плоти и экскрементов напомнил мне о том, кто стоял передо мною. Фигуры в лохмотьях затерялись в пыли городских улиц.

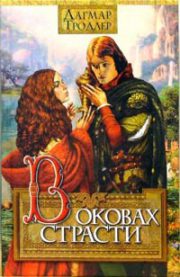
"В оковах страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "В оковах страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В оковах страсти" друзьям в соцсетях.