— Ты загнал вороного!
Он глотнул воздух, задержал дыхание и повернулся ко мне спиной, по которой можно было судить, сколь он зол на меня и на всех, кто принудил его здесь находиться. Я скомкала свой шейный платок. Боже милостивый, и что я здесь затеяла?
— Хочу рассказать вам, как это было. — Он вновь повернулся ко мне. — Хочу сказать, отчего погибла лошадь. Ей давали плохой корм.
— Чепуха! Конь всегда получал все самое лучшее.
— Ему давали плохой корм, — упорствовал Ганс. — Конюх давал ему плохой овес. Я видел это.
На секунду воцарилась тишина.
— Ты лжешь.
Я покачала головой. Никто не отважился бы на это. Никто.
— Я не лгу.
— А я тебе не верю.
— Тогда верьте тому чему хотите. Я сказал правду. — С безразличным видом он подобрал сальную тряпку и уже хотел было встать. Но тут ему что-то пришло в голову. — Откуда вам вообще известно, что я скакал на вороном? — глухо спросил он, ловя мой взгляд. Глаза его, голубые и яркие, как утро, вдруг смутили меня.
— Ты… — Я теребила руками прядь волос. — Я видела тебя ранним утром. Вон оттуда, сверху.
Он взглянул в том направлении, куда указывал мой палец, и узнал женскую башню.
— Вы все время следите за мной! Вы не имеете права…
— Я не выслеживаю. Так уж вышло. Ты скачешь на лошадях как бешеный…
— Вы выдадите меня? — спокойно, даже не взглянув в мою сторону, спросил он.
Если ты хочешь избавиться от него, то сделай это. Сейчас. Скажи отцу, он убьет его. На месте, не медля ни минуты. Скажи ему. Я отважилась взглянуть ему в лицо. Эти голубые озера — ни у кого из тех, кого я знала, не было таких глаз. Только у короля эльфов… а если все-таки он мог колдовать?
— У этого замка есть глаза и уши, — растерянно пробормотала я. — Вам следует остерегаться…
Он склонил голову к дереву, не глядя на меня. Я почувствовала иронию и презрение, но и значительную порцию непонимания моего поведения. Я подобрала свое длинное платье и, не проронив более ни слова, покинула двор.
Когда в конце февраля отец опять затеял большую охоту, он разрешил мне наконец-то принять в ней участие. Так как моя последняя охота состоялась очень-очень давно, я буквально не могла дождаться момента, когда вновь возьму в руки лук и стрелы! Отец всегда придавал большое значение тому, чтобы его старшая дочь научилась держаться в седле так, как подобает даме ее ранга. С того самого времени, когда Господь Бог друг за другом прибрал моих братьев к себе, мне представилась возможность научиться овладевать охотничьим и боевым оружием, и господин Герхард после некоторых колебаний стал показывать и объяснять мне, как пользоваться луком, стрелами и деревянным мечом. Я оказалась способной ученицей, и господин Герхард добился у отца разрешения выковать мне для занятий настоящий меч. Моя мать все-таки положила конец такому образу жизни, заявив однажды своему супругу, что тот никогда не найдет мужа для дочери, которая укладывает своих братьев боковым ударом в челюсть, владеет искусством боя на мечах на стене замка и может охотиться с луком, скача на лошади. Отец подумал и пришел в ужас от своей недальновидности. С того самого момента я стала носить платья и, как подобает, прятать длинные волосы под платком. В сопровождении матери я ходила по замку, учась ведению хозяйства, чтобы стать в дальнейшем госпожой замка. Я училась прясть и ткать, шить и вязать, музицировать, танцевать и петь. В прачечной мать посвятила меня в тайны чистки одежды с помощью золы и мочи. Она привела меня в кухню, чтобы я научилась варить супы и готовить сладкие блюда. В огородах и фруктовых садах мне не давали отдохнуть до тех пор, пока я не узнала названия и свойства каждой травинки, а за строптивыми розами я ухаживала до их цветения. Вполне естественно, что после долгих лет дикой, необузданной свободы к такой размеренной жизни я никак не могла привыкнуть. Я прошла серьезную школу; мама не теряла времени даром, будто чувствовала, что ее земной жизни скоро придет конец. После смерти матери мне выпало нелюбимое бремя заведовать домашним хозяйством графа. Отец не терпел ни робости, ни причитаний, я должна была только работать, и лишь изредка мне представлялась возможность поскакать по лесу верхом на лошади. При этом все сложнее становилось подыскивать для моих прогулок сопровождающего — одной покидать пределы замка мне запрещалось. Теперь у меня был Ганс. И никто не мог при таком сопровождении препятствовать моим прогулкам.
Утром, в день охоты, я появилась во дворе замка. Спрятав под капюшон длинные волосы, я подошла к своей лошади. Ганс не заметил меня среди прочих участников охоты. Он с унылым видом теребил в руках уздечку. Не успел он шевельнуться, как я уже сидела в седле. Взгляд его застыл на моем охотничьем одеянии. Инстинктивно я подняла глаза к небу. И моему отцу эти кожаные штаны, одетые на мне, были как кость в горле, он не без оснований опасался, что такой наряд мог послужить причиной скандала. После долгих споров он разрешил мне одеваться так на охоту. Меня злило, что и этот чужестранец счел предосудительным мое облачение.
Мы молча тронулись в путь и так же молча проскакали весь день рядом. Я заметила, что он наблюдал за мной, оценил мое умение держаться в седле, присматривался к тому, как я подкидывала в воздух ястреба-перепелятника, как обращалась с луком, как мужественно впереди всех остальных гнала раненного отцовской стрелой кабана. Я слышала, как вслед за мной он издал предупреждающий об опасности крик: кабан на бегу повернул в обратную сторону, ринулся на нас; мой конь закружился на месте, я высоко вскинула руку с оружием — и, пораженный двумя копьями в грудь, зверь рухнул в траву в нескольких шагах от меня. Собаки с лаем бросились через кусты, кабан захрипел, оскалив зубы.
— Вы отчаянная, безрассудно храбрая охотница, фройляйн. — Господин Герхард, тяжело дыша, спрыгнул с лошади. — Благодарите пресвятую деву Марию, это могло плохо закончиться!
— Ты ранена, Элеонора? О Боже…
Отец прибежал на лесную поляну и подошел к убитому кабану. Его оруженосец стал рассматривать оба копья в грудине животного. Одно было мое, а другое… Я обернулась. Мой конюх неподвижно сидел в седле и смотрел вперед. Копье, которое было выдано ему по моей настоятельной просьбе, поразило кабана в самое сердце.
Отец подал мне руку и помог выбраться из седла. Глаза мои сияли от гордости и чувства того, что все страшное позади.
— Ты хорошо понял то, что от тебя требуется, мужик, — кивнул отец Гансу.
Маленькую поляну заполнили наездники и собаки. Все стали поздравлять меня и отца. Напряжение спало, и я, счастливая, вдыхала холодный лесной воздух. Как же я любила охоту, лай собак, дикие скачки и непередаваемое ощущение триумфа, когда втыкаешь в смертельную рану пораженного тобой животного еловую ветку теплый пар, исходящий от лошадей, и кожаное снаряжение, и радостное ощущение счастья от предстоящего праздничного пиршества…
Солнце уже садилось, когда отец дал команду собираться в обратный путь. Конюхи связали кабана так, чтобы его удобно было нести. Наши лошади тяжело шагали на длинном поводе через поляну и обгладывали макушки елок и вереск.
Гансу дали старую лошадь, но даже и на такой кляче он сидел, как рыцарь, и скрыть это было невозможно. Где он мог научиться так держаться в седле? Я решила преодолеть свои сомнения и завтра же приказать ему поехать со мной на прогулку. Мой отец изучал его со всех сторон — я чувствовала, как напряженно работает его мозг, как терзает его любопытство — сможет ли после этой опасной ситуации в ответ на его похвалу нормандец наконец-то прервать свое молчание? Тогда можно будет подумать, как поступить с ним дальше…
Аббат Фулко и под своей монашеской рясой оставался вдохновенным охотником. Бросив копье слуге, он подъехал верхом к лошади графа. Я услышала, как они вновь заспорили о моем конюхе. Ганс слышал все это, и лицо его заметно помрачнело.
Охотники уже тащили убитого кабана к замку, а на моем седле болтались три фазана внушительных размеров. Оруженосец отца уже надел на голову моему ястребу-перепелятнику кожаную шапочку: сегодня прекрасная птица уже достаточно поохотилась. Я сунула кожаную перчатку в мою охотничью тужурку. Ганс взнуздал свою лошадь. И мы отправились, чуть позади остальных охотников, в обратный путь.
— Скажи мне, почему ты так ненавидишь аббата Фулко?
— Почему я его ненавижу? И вы еще спрашиваете? — Он больше, чем обычно, грассировал, рассерженно сопел. — Kyrpingr![3] Он был со мной в темнице!
— Я это знаю. Он заботился об исцелении души…
— Исцеление души! Вы не знаете, о чем говорите!
Один из охотников, ехавший чуть впереди, с любопытством оглянулся. Ганс опять замкнулся в себе.
— Исцеление души, — с горечью повторил он и вполголоса выругался на своем родном языке.
В таком гневе, как сейчас, я его никогда не видела. Что же могло случиться в темнице?
— Эй, да расскажи наконец, что он сделал? Может, ты его просто неправильно понял.
Он резко дернул за поводья и остановил обеих лошадей. Его глаза стали почти черными от гнева, они пронзили меня, как два кинжала…
— Негоже вам держать меня за дурака, госпожа. — В голосе его таилась опасность. — Даже если я неверно истолковал его слова, то основное в темнице я все же осознал. — Он презрительно сплюнул на землю. — Истязание — грязное дело, госпожа, но, оказывается, не такое уж грязное для этого монаха!
Я застыла с открытым ртом. То была самая продуманная речь, какую я когда-либо слышала. Шокированная этим, я взглянула на него. Аббат принимал участие в пытках? В это я не могла поверить. Духовным лицам было строго-настрого запрещено проводить допросы с применением пыток, это было известно каждому. Конечно, он посылал язычников ко всем чертям, он сам говорил мне об этом — но чтобы участвовать в пытках? Нет, никогда. Он, скорее, молился, чтобы Господь Бог не оставил своим вниманием его душу.
— Ты врешь, — сказала я, качая головой, — никогда аббат Фулко не занес бы свою руку…
Я поймала его взгляд и содрогнулась от ужаса.
— Skalli er vargr undir sauod![4] Вам лучше вообще не говорить о том, в чем вы совсем не разбираетесь, женщина.
Обескураженная, я смотрела ему вслед и бормотала:
— Проклятый глупец. Отец убьет тебя.
Между тем на землю спустились сумерки. Небольшими группами охотники возвращались домой. Мужчины ликовали и распевали песни об охотничьем счастье; на лошадях бодро ступали, преодолевая последний участок на пути к замку. Ганс ехал молча, с угрюмым выражением на лице. Он прямо держался в седле, а взгляд его был направлен на заснеженную гриву моей лошади. Я никак не могла поверить в то, что осмелился утверждать чужеземец: будто аббат Фулко — участник пыток.
— Для дамы вы держитесь в седле довольно сносно, — к своему большому удивлению, услышала я рядом.
Он заговорил со мной! Я вскинула голову, но он смотрел вперед, как будто это замечание ему самому не нравилось. Неужели ему приятно быть таким грубым и агрессивным? Лицо его было в тени, я не могла заметить его выражения.
Толчком я заставила лошадь идти быстрее.
— Для раба ты скачешь на лошади более чем хорошо, — сказала я.
Он обернулся, и этот взгляд напугал меня. Ужаснувшись, я крепче схватила поводья. Я же хотела сказать нечто приятное этому… Этому дикарю из леса… Последнее, что я помню из того вечера, был перестук копыт его клячи, которую он безжалостно заставлял мчаться к оврагу. А это было так же не просто, как со скрипом и скрежетом закрывать ворота на замок.
В начале марта произошло то, чего уже давно ждал весь замок: отец решил жениться. Много причин побудили его совершить это, и мое плохое ведение хозяйства, конечно, было всего лишь одной из них. Миловидных батрачек в замке было предостаточно, но свободный граф должен был иметь добродетельную и благонравную супругу. Самым большим несчастьем для него являлось отсутствие наследника для своего маленького царства. А какой же правитель мог смириться с мыслью о том, что ему придется все свое состояние после смерти отдать в руки кайзера.
Собрались все вместе и стали совещаться, какой из рейнских дам отдать предпочтение. На вечерних трапезах в большом зале я слышала теперь произносимые вслух женские имена: оценивали физическое превосходство некоей Эдельгарды и одновременно потешались над длинным носом какой-то Гильтруды. Агата была слишком молода, богатая Урсула слишком стара, а с отвратительной Клементиной отец ни за что на свете не хотел ложиться в постель.
Меня злило, как мужчины говорили о женщинах, а некоторые непристойности просто вгоняли меня в краску. По совету дяди Рихарда, который во время своих путешествий по Рейнской области вглядывался в миловидные, приятные женские лица, отец выбрал старшую дочь графа Юлиха Аделаиду, знатную и, по утверждению Рихарда, красивую, как Божья матерь. Богатая и прекрасная — да еще и с могущественным отцом! Мой отец уже потирал руки от такой великолепной партии: граф Юлих высоко ценил его и его лошадей. Ему следовало бы радоваться, отдавая свою дочь в жены свободному графу Зассенберга… Тогда ему вряд ли придет в голову мысль затевать завоевательные войны против собственного ребенка. Объединение с домом Юлиха было на самом деле лучшим, к чему только мог стремиться отец, если хотел видеть свои владения независимыми.

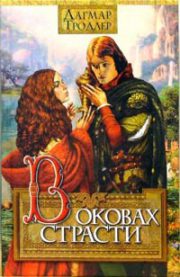
"В оковах страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "В оковах страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В оковах страсти" друзьям в соцсетях.