ГЛАВА 27
Юджиния сидела за столом, но в голову ничего не приходило. По привычке она открыла свой дневник, но чистая страница запылилась: с этим ничего не поделаешь. «Мы осаждали Ратисбон…»– подумала Юджиния. Эта фраза вызвала чувство у кого-то другого, для кого-то другого была откровением.
…Тот жаркий бой Наполеон
Зрил, стоя на холме.
«Я должна снять платье, – сказала себе Юджиния, но не сдвинулась с места. – Его надо почистить. В джунглях оно испачкалось. И порвалось. Тем не менее, Олив сможет его починить, вывести пятна, заменить кружево: она удивительная рукодельница».
Но белое отрезное платье спортивного покроя, надетое Юджинией в Кучинге, срослось с ее кожей – темно-каштановый лиф, твердый, как картон, облегающие, как кора дерева, рукава. «Именно это я сделаю, когда встану, – пообещала себе Юджиния. – Первым делом займусь этим, когда встану с этого стула. Когда снова смогу идти».
А за окнами ее каюты «Альседо» взял курс в открытое море, оставив позади берега Борнео, и устремился в воды океана. Казалось, корабль говорил: «Как хорошо оказаться в родной стихии. Как хорошо снова ощутить под собой соленые волны». Яхта трепетала, поскрипывая шпангоутами, подвывая от удовольствия. Юджиния не слышала ничего.
Она вытянула перед собой руки и посмотрела на манжеты. Они были в коричневатых пятнах. И руки тоже были в пятнах, а под ногтями чернели ободки крови. «Если я сниму это платье, – удивленно подумала она, – что же я надену? «Мы осаждали Ратисбон…» – повторила про себя Юджиния и посмотрела на изящную крышку стола. На нем все осталось по-прежнему, как на прошлой неделе или как месяц назад. Ее книги – на своих местах. Вот ее перо, бумага, фотографии трех детей: свеженачищенные серебряные рамки, чистые, ни пылинки на стекле.
«Я могу открыть шкаф и выбрать новое платье. Могу принять ванну, вымыть голову, позвать Олив. Я могу встать. Лечь в постель. Могу выйти на палубу и пройтись…»
Мы осаждали Ратисбон,
За милю или две…
В коридоре суетливо забегали и зашептали. «Опять принесли поднос с едой, – догадалась Юджиния, – словно я хочу есть. Мой сын мертв. Что толку есть?»
– Джини! – позвали ее сквозь закрытую дверь. – Джини! Это папа. – Слова звучали издалека, как будто кто-то читал, а не говорил или плохо повторял, как бездарный актер в театральном спектакле. Юджиния никак не могла решить, что хуже: лгать самой себе или окружающим. «Когда обманываешь себя, – размышляла она, – другие непроизвольно с этим тоже соглашаются?»
– Джини, дорогая. Ты должна выйти. Тебе надо поесть, понимаешь. Или прогуляться на свежем воздухе… Мы вышли в открытое море, теперь… Земли не видно, так что тебе не придется… тебе не придется… – Отрепетированный текст не давался; отец Юджинии не годился на роль, которую брал на себя.
– …Кроме того, Джини, ты не пьешь и не ешь больше суток… Понимаешь, нам нужна твоя помощь. Бедный Джордж… ну… он буквально вне себя, не может остановиться и вообще… Мы не можем заставить его… – если словесные излияния и продолжились, то они не дошли до слушателя.
«Ах, ты, бедный Джордж, – повторила Южиния про себя, – подумать только, бедный Джордж. Напился, как сапожник, в кругу растерявшейся угодливой свиты. Винит себя в смерти сына. У меня, дескать, сердце кровью обливается! Наверное, думал, что все это сойдет ему с рук. Хотел тихо удалиться с лилейными руками и улыбочкой на лице. А теперь ждет, что все его будут жалеть!
Двадцать четыре часа. Один день. Вчера утром мы были в Кучинге. Днем отплыли. По-моему, время после ленча… и следующий день. Или утро. Надо вставать. И переодеться».
Но Юджиния оставалась в кресле.
Прошло какое-то время. В коридоре зашушукались: миссис Дюплесси произносила сентиментальные слова, доктор Дюплесси ее урезонивал; ненадолго по ту сторону двери появлялся Уит. Затем вернулся отец и заговорил об «упокойной службе», что это «сущая формальность… несколько псалмов, одна-две молитвы, не слишком обременительно… Из-за жары и все такое, Джини… нельзя больше откладывать… бедный малыш не выдержит… Ведь ты понимаешь, тридцать часов, это…
Затем последовало:
– …У тебя еще будут дети. Джини… Ты удачливее многих… Вот увидишь… И Джордж может… ну, ты и Джордж можете…
Юджиния приложила руку к животу и почувствовала, как он поднялся. «Спазм, тошнота, новая жизнь, – какое это имеет значение? И так плохо, и сяк тоже плохо. Когда видишь что-то и отворачиваешься или когда вовсе этого не видишь, разве это снимает с тебя вину? Если поддаешься невежеству и страху, соблазну пойти по легкому пути, разве снимаешь с себя вину?»
Юджиния встала, толкнула стул, подняла руки со стола. Пора переодеться. Она начала расстегивать пуговицы на манжетах, но они прилипли к материи, и никак не поддавались. На пальцах шелушилась темная корка, и когда Юджиния стаскивала рукава, на ткани остались красновато-рыжие полосы.
«Я сниму это платье и уберу подальше. Не позволю Олив чинить и чистить его. Спрячу в верхний ящик шкафа, и никто, кроме меня, его никогда больше не увидит».
Оставшись в сорочке и рваных чулках, Юджиния нашла большую кашемировую шаль, расстелила на полу и посередине положила платье. Тщательно сложила рукава, юбку и лиф.
…Сквозь гром орудий, сквозь огонь
Взмывали стремена:
Мчал верхового верный конь
До самого холма.
Юджиния продолжала свою работу; движения были мягкими, но соразмерными ритму стиха.
…Кто знал бы, что на скакуне
Со вздыбленною гривой —
Не муж, иссеченный в войне,
А юноша ретивый…
Юджиния свернула платье, затем перевязала сверток небесно-голубым поясом и спрятала в самый дальний уголок шкафа. «Это все, что у меня осталось от Поля», – подумала она и одновременно вспомнила последнюю страшную строку стихотворения.
Когда мама вошла в ее каюту, Лиззи удивилась, увидев, на ней зеленое шелковое вечернее платье, и без всякой задней мысли высказала свое изумление:
– Но ведь это вечерний туалет, мама! – сказала она и несколько грустно добавила: – Однако тебе очень идет.
Юджиния уловила в тоне старшей дочери легкую зависть.
– И тебе пойдет, дорогая, – ответила она. – Всему свое время. Ты вырастешь, прежде чем осознаешь это.
Но Юджиния пришла сказать не об этом. Так же, как не собиралась надевать вечернее платье. Просто оно первым попалось ей под руку, когда она сняла с себя платье, которое носила в Кучинге.
Юджиния села на кровать Лиззи, оглядывая опрятную уютную комнату, прислушиваясь к мирному тиканью фарфоровых часов и спокойному, убаюкивающему шуму волн. Небо было таким же голубым, и от него, и от воды, повсюду падали переливающиеся блики: на белую комнату, на потолок, на чистые столики, на комоды, на кровати и стулья, – все было таким же, как несколько месяцев назад. Поль мог бы находиться в соседней каюте, или с Уитом а палубе, или бегал бы где-то по большому и гостеприимному кораблю. Если забыть про здравый смысл, можно поверить во что угодно.
Она решительно вздохнула, положила руки на колени и начала разговор:
– Лиззи… – сказала Юджиния и поняла, что не имеет ни малейшего понятия, куда заведет ее разговор. Впервые в жизни она говорила с детьми, не продумав заранее беседы. – Я понимаю, какими тяжелыми были два последних дня… – Юджиния снова запнулась. – …И, должно быть, вы с сестрой были напуганы и, уверена, чувствовали себя одинокими и покинутыми. – Юджиния замолчала, она с трудом выдавливала из себя слова. – Тяжелые – не то слово, не так ли? Чтобы выразить то, что все мы чувствуем…
Лиззи хотелось сказать что-то ласковое, но она ничего не смогла придумать. Изысканный наряд матери ее смутил. И этот странный, спокойный разговор тоже. Казалось, мама стала другим человеком. До смерти Поля она бы никогда не надела вечернее платье днем. Никогда не вошла бы в каюту дочери как гость и не присела бы на краешек кровати. Эта перемена напугала Лиззи, заставила ее нервничать; она боялась расплакаться и сидела, не шелохнувшись и не моргая, как статуя.
– …Чтобы выразить то, что мы чувствуем… – повторила Юджиния, затем собралась с мыслями и продолжила более громким голосом: —… И я виновата не меньше других. Возможно, больше, потому что я… – Она снова замкнулась. «Потому что я что? – спросила себя Юджиния. – Потому что я лучше других? Более любящая мать? – Эта мысль отрезвила ее. – «Никогда не поддавайся невежеству или страху», – напомнила она себе. Эта фраза до известной степени ее утешила.
– …Но мы должны держаться вместе, Лиз… – Юджинии стало проще говорить. Ведь слова адресовались ее дочери, а не ей самой. – Мы втроем: ты, твоя сестра и я. Мы должны держаться вместе, потому что мы любим друг друга. Потому что мы – семья…
«А как же папа? – хотелось возразить Лиззи. – Он что, не считается? Разве ему не тяжело? Разве он будет скучать по Полю меньше, чем мы? От замешательства Лиззи рассердилась. Она покраснела и прикусила губу. Юджиния смотрела на дочь. То, что происходило между ними, на самом деле являлось осознанием их отношений. «Я твоя мать, – взывало лицо и тело Юджинии, а Лиззи всем своим видом отвечала: – Я знаю и хочу тебе верить, но не уверена, смогу ли».
– Понимаю, ты беспокоишься об отце, Лиззи, – мягко сказала Юджиния. – Знаю, что ты не видела его, и уверена, что ходят всякие… «Слухи? – подумала Юджиния. – Сплетни? Какие слова помогут моему ребенку? Знает ли она, что с тех пор, как умер Поль, ее отец беспробудно пьет у себя в каюте? Что к нему не хотят заходить даже стюарды? Что, приходя в себя, он открывает беспорядочную стрельбу и швыряет вещи в стены?»—… всякие ужасные разговоры… Но что я хочу сказать, Лиз. Мы, каждый из нас отвечает за свои поступки, и твой папа тоже. Если мы совершаем ошибки, только мы сами можем привести дела в порядок. Думаю, ты уже это поняла. Вы ссорились с сестрой – ссорились по пустякам, как сейчас оказалось, – но только вы сами можете уладить ссору. Ни я, ни Прю, ни кто-либо другой не могут вмешиваться. Каждый – хозяин своей жизни. Ты понимаешь о чем я говорю?
– Да, – ответила Лиззи. Внезапно у нее засосало под ложечкой. Она четко знала, что последует дальше.
– Мы не вернемся в Филадельфию? – спросила она.
Прежде чем ответить, Юджиния на секунду задумалась, но не потому, что колебалась, формулируя ответ, а потому, что изумилась проницательности Лиззи. Мать и дочь внимательно посмотрели друг на друга, и ни та, ни другая не отвели глаза.
– Нет, – сказала Юджиния, – не вернемся. – А затем добавила, – ты храбрая девочка, и я люблю тебя всей душой.
Когда Юджиния открыла дверь в кабинет Джорджа, у него была кратковременная передышка. Он сидел развалясь в кресле, как измученный медведь, со склоненной на грудь головой, вытянув ноги и распластав руки. В комнате пахло мочой, рвотой и гнилью; ни одна вещь в комнате не обошлась без его внимания: стол, лампа, книжная полка, картины. На всем оставались следы погрома. Разбросанные по полу книги, перевернутые стулья, испещренные дырками стены, кучи грязного битого стекла. Юджиния стала пробираться сквозь этот разгром, приподняла юбки, отшвыривая ногой мешавшие ей предметы.
– Джордж, – требовательно позвала она. – Проснись.
Муж очнулся со стоном.
– Не видел их… – сказал он. – …Не знал… думал отец… – Или нечто похожее. Речь была невнятной. – Отец… – повторил Джордж. С таким же успехом он мог говорить что угодно: отец, пловец, юнец.
– Джордж, – повторила Юджиния. У нее не было к нему ни капли жалости. – Сядь как следует и послушай.
Джордж тут же подчинился. Во всяком случае, на большее он не был способен. Он никогда не противился приказам и где-то в дальних уголках памяти мелькнула мысль, что это отец требует его внимания. А может быть, и ангелы. Они пришли простить его. Ангел в зеленом одеянии с волнистыми, как у леди, волосами. Джордж вспомнил, что его сын мертв, и в этом его вина, и что его единственная надежда – в искуплении греха.
– Ангел, – повторил он. – Здесь. – И, сдвинув колени, откинулся на спинку кресла. Под ним была лужа. – Лечу! – добавил он, раскинув руки в стороны. Руки шлепнулись на колени.
– Это я, Юджиния, Джордж. – От ярости Юджиния стала спокойной, как камень. Было время, когда она могла бы спутать это чувство с безмятежностью или стремлением к покою; она бы подумала: «Как я благоразумна». Но данное ощущение не имело ничего общего со спокойствием.
– Я хочу, чтобы ты пришел в себя и послушал.
– Пришел в себя… пришел в себя… пришел в себя… – прощебетал Джордж, откинул голову назад и посмотрел на жену. – Чудесно выглядишь, моя дорогая… По особым поводам всегда… хотя, зеленое… зеленое платье… по-моему, больше уместно черное…
Юджиния его не слушала.
– Я приказала капитану Косби высадить меня и девочек на острове Биллитон, – сказала она.

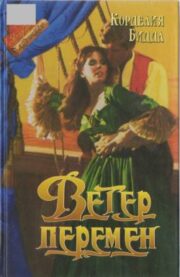
"Ветер перемен" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ветер перемен". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ветер перемен" друзьям в соцсетях.