Я не знаю, когда и где моя мать сдвинулась на предмет великосветской жизни. Ее семья действительно была из старейших в Сэг-Харборе, и, слыша ее речь, легко было предположить, что ее отчий дом весь увешан портретами бородатых глав семейств Истонов, в наглухо застегнутых мундирах капитанов китобойных судов. Но никаких портретов не было и в помине: в восьмом классе я сгонял на велике в сэг-харборовскую библиотеку и узнал, что никакого основания для культа предков не существовало. Первые американские Истоны, наверное, плавали, но, вероятнее всего, простыми матросами: хромыми и с черными пеньками гнилых зубов. Мой дед, умерший еще до моего рождения, продавал билеты на паром, курсировавший между Сэг-Харбором и Нью-Лондоном.
Но несмотря на то, что в реальности все обстояло ровным счетом наоборот, моя мать была уверена, что она — самая что ни на есть светская дама. И она плевала с высокой башни на местную женскую элиту Южной Стрелки, на всех этих адвокатш, докторш, фермерш и даже «толстосумш» из янки, — не в последнюю очередь потому, что они прекрасно знали, кто она есть на самом деле, а кто не есть. Зато она жила ожиданием Дня Памяти [20], когда ее «друзья» переезжали в свои летние имения. Помню, когда я был маленьким, она могла провести целый вечер за разговорами о своих нью-йоркских «приятелях». Людях Высокой Пробы.
«Приятели» ее, разумеется, были ей никакими не приятелями, а скорее покупателями, отдыхающими в своих громадных виллах, — подобных тому, что принадлежала Саю. А она все говорила и говорила о туфельках миссис Оливер Сэкет, вручную вышитых в Англии — «Божественная, тонкая работа!». Или о тридцати одном платье — «Норель! Мейнбоше! Шанель!» — миссис Квентин Далмайер, которые вышеозначенная особа заказала в центральном филиале магазина в Нью-Йорке, по одному на каждый июльский вечер.
И каков результат? Всю свою жизнь мать чувствовала себя обделенной, потому что у нее не было ни машины с водителем (« Никогдане говори «шофер», — наказывала она Истону, — так говорят только нувориши»), ни горничной, ни собольего манто. У нее даже не было крыши над головой, которая бы не протекала.
Думаю, именно поэтому я старался сваливать из-под этой крыши как можно чаще. Невмоготу мне было восседать за тарелкой ее specialite de la maison, макаронами и неразбавленным кэмпбелловским сырным супом из пакетика (который, разумеется, не был высокой пробы, но который она провозгласила «забавным») и слушать, как она беседует с Истоном своим клокочущим голосом — она беспрерывно курила и сделалась похожей на королеву Елизавету, подцепившую ненароком ангину. О Господи… Она часами могла расписывать, как миссис Габриэль Уокер — «одна из филадельфийских сестер Банди» — обмирает по ткани букле, совершенно обмирает… Она всегда обращалась исключительно к Истону и никогда — ко мне. Мы оба знали, что это было бы пустой тратой времени.
Я выпадал из атмосферы этого дома. Как и мой папаша, я не был Человеком высокой пробы.
— Не припомните ли вы случаи, когда мистеру Спенсеру угрожали по почте или по телефону? — допытывался у Линдси Киф Роберт Курц.
Взглянув на Робби, можно было догадаться, что он поднялся засветло, чтобы как следует расфуфыриться. В нагрудном кармане его коричневого клетчатого пиджака красовался желтый платочек в горошек. Запах удвоенной дозы лака для волос был сильнее, чем аромат огромной охапки белых роз. Они торчали из огромной вазы на низком столике у диванчика, где мы с Робби и примостились.
— Ну что вы, никаких угроз, — не сказала, а прямо-таки прошипела Линдси и скривила губы. Она изо всех сил старалась сохранять терпение. — А что вы ожидаете услышать? Что убийца подошел к нему и объявил: «Ты покойник»? В трубку тоже никто не дышал.
Для женщины, испытавшей потрясение, Линдси рассуждала очень здраво. Она вполне владела собой и не обнаруживала ни малейших признаков истерии. Героиня тусовок, напичканная валиумом, чувственная актриса, как описал ее агент, в действительности не имела ничего общего с реальной Линдси.
Хоть я и видел ее краем глаза накануне вечером, где-то в глубине души я все же ожидал узреть здоровенную кинобогиню, сверхдиву с умопомрачительными сверкающими губами и колоссальными ногами, способными раздавить всмятку любого мужика, который на свою беду окажется между ними. Но Линдси, стоящая у окна и теребящая легкую белую занавеску, была обычного человеческого роста, только очень тоненькая и миниатюрная (чего нельзя было сказать о знаменитых сиськах). Ее словно специально сконструировали для того, чтобы мужчины рядом с ней чувствовали себя крупными и значительными. С этой своей грациозностью она, наверное, идеально подходила Саю. Два исключительно карманных экземпляра — и каких!
Но внешность Сая была обыкновенной. А Линдси Киф выглядела необыкновенно. Неудивительно, что она перебралась из захолустных театров Среднего Запада, с их нескончаемыми греческими трагедиями, — в авангардное европейское кино, а потом стала американской кинозвездой. Ее лицо было прекрасно. Не то, чтобы совершенно, но близко к тому.
У кинозвезд обычно обязательно бывает какой-нибудь пустяковый, но жуткий изъян — бородавка или красное родимое пятно, на которое невозможно не обратить внимания, какой-нибудь недостаток, заставляющий тебя задуматься, почему бы ей все ж таки не поднапрячься и не сделать пластическую операцию. На шее у Линдси, там, где у мужиков адамово яблоко, красовалась черная родинка. Это была такая мелочь, которую в жизни не заметишь у обычного человека, но тут я просто глаз не мог оторвать.
Кожа у ней была такая бледная, что сквозь нее просвечивали вены. Волосы замечательно платинового цвета, почти серебряные, с золотистыми прядями. И черные, как смоль, глаза.
Она была облачена в белое. Длинная тончайшая юбка и светлая строгая блузка. Гостиная в белых тонах напоминала мне съемочную площадку, специально оформленную так, чтобы оттенить красоту блондинки. Многие из вещей, я уверен, были настоящим антиквариатом. Пузатые диваны, стулья были обиты белыми тканями различного оттенка, и оттого казались как бы даже цветными.
— Откровенно говоря, — продолжала Линдси, — Сая трудно былонапугать. Он всегда контролировал ситуацию. Он был на вершине возможностей. В интеллектуальном, эмоциональном, финансовом смысле… — Она ненадолго умолкла. Когда она вновь заговорила, в ее голосе зазвучали нотки отвращения, словно она подозревала нас в сомнениях на предмет «супервозможностей» покойного. Казалось, ее раздражал уже сам наш вид, — недалеких, мелочных и грязных копов с куриными мозгами.
— Так уж и быть, я отвечу и на то, о чем вы хотели, но постеснялись спросить. Он был также на вершине своих сексуальных возможностей.
Она лгала, но это не имело никакого значения, не говоря уже и о том, что она вела себя резко, бесцеремонно и ошеломляюще нагло. Пока она говорила, мы с Робби слушали, как завороженные. В ее голосе был какой-то глубинный чувственный подтекст, усыпляющий рокот. Хотелось ее слушать и слушать, внимать каждому ее слову. Она могла бы рассказывать о смерти Сая, декламировать эротические стихи, перечислять ингредиенты с этикетки на пузырьке с лосьоном. Устоять перед ней и не слушать ее было невозможно.
Хотелось аплодировать каждой фразе. Потому что, кроме Лица и Голоса, было еще и Тело.
Она расположила свое тело прямо напротив окна. Шторы были открыты, и яркий утренний свет просвечивал ее насквозь, было видно, чуть ли не что она ела на завтрак. Все светилось: ноги, полоска трусиков-бикини, обтягивающих плоский живот, талия, которую можно было обхватить рукой, и что самое главное — она была без бюстгальтера. Поразительно, но ее сиськи были совершенно настоящими, грандиозными и внушали уважение. Они отрицали законы всемирного тяготения и указывали прямо на север. Ну и разумеется, она стояла слегка в стороне, так, чтобы солнечный свет обязательно просвечивал сквозь одежду, и тебе уже ничего не оставалось делать, как созерцать два бугорка ее сосков, упиравшихся в просвечивающую ткань туго заправленной в юбку блузки.
— Сай был на гребне славы и как художник, и в финансовом отношении. Вам не лишне будет знать, что кино — это не тот тип деятельности, где все друг друга обожают. Но стал ли бы кто-нибудь убивать его, только потому, что его фильм завоевал Золотую Пальмовую Ветвь в Каннах и принес ему девяносто два миллиона? Нет уж, увольте.
Робби кивал на каждом слове Линдси, с видом полного идиота. Его голова безостановочно покачивалась вверх и вниз, как у кукол-болванчиков с пружинками в шее, которые всегда сидят у заднего стекла машины.
Я вообще не кивал. Потому что, во-первых, хоть я и был заворожен этим Голосом, у меня еще хватало мозгов понять, что это всего лишь треп. В краткой форме и в великолепно продуманном освещении, она преподносила нам свою внешность. И это зрелище призвано было настолько поразить воображение двух противных копов, чтобы им и в голову не пришло сомневаться в ценности сведений, полученных от Линдси.
А во-вторых, мои кивательные рефлексы были заблокированы ввиду того, что я тривиальным образом обалдел от ее абсолютного безразличия к нам. Слушай, мы ведь не заскочили к тебе, чтобы взять штраф за неуплату на парковке. Я скорее ожидал бы, что она, будучи актрисой, раз-другой глубоко бы всхлипнула или хотя бы шмыгнула носом. А она всего-навсего делала вид, что подчиняется нашей воле и отвечает на вопросы, чтобы не прослыть за особу, отказавшуюся сотрудничать с полицией. Да еще при этом постоянно держала нас в состоянии возбуждения — только потому, что не умела находиться в одной и той же комнате с мужиком и не возбуждать его. Но ей было начихать, что мы о ней думаем. Я в жизни не сталкивался ни с чем подобным.
Ведь и сам факт убийства, и копы, расследующие его, — не такое уж будничное событие для большинства людей. Ко мне всегда хоть как-то да относились: уважали, ненавидели, оказывали содействие, заискивали, осторожничали, морочили голову. Вне зависимости от наших личных качеств, для каждого имеющего весьма смутное представление об убийстве, Робби и я были представителями власти и символами Закона. Но только не для Линдси. Для нее мы были всего лишь клоунами в дешевых спортивных пиджаках.
Она высвободила локоны из-под воротничка и тряхнула головой, дав им возможность рассыпаться по плечам.
— Какие еще ко мне вопросы? — поинтересовалась Линдси.
Робби попытался проявить силу воли. У него, разумеется, ничего не вышло. Он начал источать кислый запах сырой шерсти; он весь взмок от нервов и желания.
— Упоминал ли мистер Спенсер когда-либо о своих недоброжелателях? — выдавил наконец он.
Линдси глубоко и медленно вздохнула, главным образом, чтобы продемонстрировать нам, какому тяжелому испытанию подвергается и какую бездну усилий прилагает, чтобы сохранять хладнокровие.
— Так что, мисс Киф? — Голос Робби не то чтобы совсем уж походил на блеянье, но, держу пари, не выиграл бы приза за лучший резонанс.
Она наконец отказалась от идеи выгодно преподносить себя у окна и присела на стул, поджав ноги и сложив руки на коленях, как это делают истинные леди.
— Послушайте, я уже и так сообщила все, что могла, — сказала Линдси. — Мне больше ничего не известно.
Ай да голос! О таких голосах можно только прочесть, да и то в старых детективах. Такой голос мог быть у какой-нибудь девушки-шпионки по имени Велма: сочный, тягучий, как сироп. Но вот что удивительно: несмотря на все свои достоинства — молочную просвечивающую кожу и офигенные сиськи, на белокурые локоны и темные таинственные глаза, Линдси Киф меня совершенно не волновала. Не сомневаюсь, она бы вполне устроила заурядного обожателя сногсшибательных блондинок. Но на работе или вне ее, я был не из тех, кто с легкостью сносил оскорбления.
Я подумал, может, Линдси из кожи вон лезла, стараясь скрыть некую ранимость или невоспитанность, которую, как она опасалась, ей приписывали. Но скорее всего она просто стерва, высокомерная, грубая и бесчувственная.
— Так что же? — спросила она. — Какие еще вопросы?
Робби еще держался на ногах, но, казалось, он в одночасье позабыл, что работает следователем по убийствам отделения полиции Саффолк Каунти и является возлюбленным супругом Конопатого Декольте. Он нервно сглотнул.
— Думаю, мы вроде все обсудили на настоящий момент, — сказал он.
— Вот и хорошо, — обрадовалась она и встала. Робби тоже вскочил, разумеется, треснувшись ногой о белый мраморный столик.
Я не сдвинулся с места.
— Скажите, пожалуйста, мистер Спенсер когда-либо упоминал при вас о ком-нибудь из своих бывших коллег по кошерному бизнесу?
Во взгляде Линдси промелькнуло легкое любопытство. До этого вопроса я предоставил все бразды правления Робби, а сам не проронил ничего, кроме «Добрый день» и «Извините».

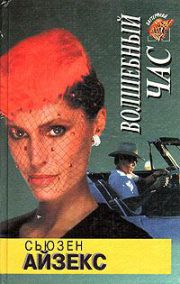
"Волшебный час" отзывы
Отзывы читателей о книге "Волшебный час". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Волшебный час" друзьям в соцсетях.