Да, Рено вернулся! Он тут, в соседней комнате, так близко, что мне слышно его дыхание, шелест страниц книги, которую он листает… Он тут, но это не он – или я уже не Клодина…
«Он вернётся, – говорила я себе, – и сумерки в этот час будут светлее лунной ночи: я увижу его силуэт в дверях вагона и тут же вспомню всё, что мне дорого в прошлом, что я люблю теперь…»
Уже семь дней я живу в кошмарном сне! Почему я не узнала ни его голоса, ни взгляда, ни тепла объятий? Да, я доверила врачам, что забрали его в снега, измученного больного – но он жил, – утомлённого неврастеника – но он трепыхался, – так по какому праву они возвращают мне старика?
Старик, старик!.. возможно ли? Друг мой, мой возлюбленный, дорогой мой спутник, часами мы в неистовстве слышали лишь дыхание друг друга – возможно ли, спрашиваю я вас? А если так, если вы в самом деле превратились в бледную и сгорбленную тень моего любимого, то какое затмение помешало мне предвидеть то, что случится? Мне двадцать восемь, вам пятьдесят, юность вашей зрелости была столь блистательной, нетерпеливой, пылкой, что я не раз желала – о мой дорогой! – чтобы к пятидесяти вы остепенились… Зловещее чаяние услышало насмешливое божество! И вот вы в одно мгновение, как по волшебству, непоправимо стали тем, к чему звало вас моё неосторожное пожелание: стариком!.. Поблёкла тёмная озёрная гладь ваших глаз, увяли губы, которые так нравились моим губам, ослабли объятия красивых, сильных, как у влюблённой женщины, рук!.. Так кто же и за что так меня покарал? Вот стою я в слезах, сложа руки, совсем как Анни, что оплакивала на этом самом месте самую осязаемую и презренную разновидность любви… Я полна силы, которую никогда не растрачивала вполне, я молода – и наказана, и лишена всего, что я втайне любила с горячей страстью, и наивно заламываю руки над пропастью краха, перед изувеченным слепком былого счастья… А тот, кого я с влюблённой шутливостью звала «папочкой», до конца наших дней превратился и впрямь в моего престарелого родственника…
Он любит меня и молча страдает от боли унижения, потому что я отказываюсь принимать то, что он мне предлагает: его ловкие руки, губы, которые умеют доставлять такое удовольствие… Нервы мои, моя стыдливость восстают при мысли, что он оказался вдруг услужливым бесчувственным инструментом…
Он здесь, в соседней комнате, его тревожит моё присутствие и моё молчание. Он хочет позвать меня, но не решается. С самого дня возвращения я читаю на его бледных губах застывший вопрос, желание объясниться… А я уклоняюсь. Лучше страдать – но не слушать то, что он скажет. Мы героически лжём, улыбаясь друг другу, как чужие. Я начинаю мурлыкать какой-то мотив, потому что ловлю его мысль и знаю: если я сейчас не заговорю, не запою, не подвину стул, он меня окликнет. Когда я одна, я трусливо предпочитаю мучиться, сама стремлюсь к невыносимой, как ожог, боли, но ему я лгу – умиротворённой разглаженностью лба и покоем глаз, безобидной ласковостью губ, – потому что не хочу, чтобы он заговорил, унизился до извинений, которые оскорбят меня ещё больше, чем его, – его отказа от своих прав я не приму никогда, никогда… Я отвергаю свободу! Я гляжу на вас с чуть презрительной нежностью, как на игрушку своего детства, – кто знает, может, мне и не приведётся больше с вами играть…
Но главное, даже когда боль становится особенно нетерпимой, в ночные часы, когда я изощрённо ковыряю свою страшную рану с той глупой гордостью, что заставляла меня когда-то улыбаться, прикусив до крови язык, в самый разгар изнурительной гимнастики для закалки воли, меня не покидает упрямая, почти бессознательная надежда, тёмная надежда растения, сминаемого бурей, на то, что непогоде в конце концов придёт конец, и внушающий доверие голос не перестаёт шептать: «Всё обойдётся. Не знаю как, но обойдётся. Нет ничего непоправимого, кроме смерти. Даже привычка мучиться, страдать – уже лекарство, она делает наши дни размеренными и не такими тяжёлыми…»
– Никто не умирает просто так, – категорично заявляет Марта, – и от тоски тоже не умирают! Ещё никто не умер от тоски! Посмотрите на Клодину… Каждый думал, узнав о смерти Рено: «Ей этого не вынести». А она жива-здорова! У неё достаточно здравого смысла и вкуса к жизни…
Я улыбаюсь для приличия и гляжу в сад, отвернувшись от струи дыма, которую выпускает, надув губы. Марта… Она тоже постарела, но великолепная косметика скрывает годы. Даже путешествуя в автомобиле, она не отказалась от резких тонов в одежде, выигрышно подчёркивающих красное золото волос и белизну кожи. С крохотной шляпки без полей спадает длинная зелёная вуаль, а на кресло небрежно брошена лёгкая накидка фиолетового тюсора, защищавшая от пыли платье шафранного цвета… Кажется, она как-то уменьшилась, округлилась, одежду стала носить тесную: грудь вперёд, бёдра обтянуты. На подвижном лице светской повелительницы – упрямая готовность к отпору, бунту против необходимости стареть, прибавлять в весе, увядать…
Сегодня утром мощный красно-жёлтый автомобиль высадил у моего крыльца из шатких чёрных камней белого от пыли и красного от жары Можи, одетого шофёром Леона Пайе и его жену. За ними следовала Анни, довольная тем, что снова видит меня, и смущённая оттого, что не осмеливается мне это сказать… Они шумной гурьбой вторглись в моё жилище, я могла лишь впустить их, усадить, накормить – одиночество сделало меня застенчивой и молчаливой…
Можи потеет и пыхтит, опрокидывает без остановки то стакан воды, то бокал шампанского. Он умирает от жары и только и может, что сжать мои руки в своих влажных ладонях и выдавить из себя: «Дружочек ты мой, дружочек», и я угадываю за его словами воспоминания сентиментального пьяницы… Марта курит и обмахивается, а её муж тщательно обдумывает что-то – ухоженный, бородатый, смешной и несчастный. Меня тревожит Анни, которую совсем затмила Марта: она такая нездешняя, такая похожая на былую Анни, так беспрекословно подчиняется сухим указаниям Марты, что я не знаю, что и думать.
Я послушно терплю этих людей. Когда солнце сядет, они уедут. Мелькнут, как краткая, но надоедливая картина в моей мирной дрёме. Я с безропотностью гостьи жду, когда они исчезнут, время от времени опускаю глаза, смотрю на свои загорелые руки крестьянки. Улыбаюсь, говорю мало. Гляжу сквозь сверкающую дверь в сад, где мошки плетут серебряными крылышками тонкую сеть. Домашние звери мои удрали из стеснения и деликатности, но я слышу, как шуршат по гравию лапы бродящего неподалёку Тоби-Пса, как мурлычет Пррру, моя рыжая кошка, – она соскучилась и зовёт меня, – как дружелюбно кричит сорока Зиас…
Ставни закрыты, но я вижу напротив, в тёмном зеркале стекла, своё отражение, которому явно не место рядом с отражениями Марты. Можи и двух остальных – тёмное лицо, белое платье, голова неприкрыта, волосы спутались и выгорели на солнце, как у пастушки… Я жду, когда они уйдут.
Терпеливо жду. Я уже привыкла. Я теперь знаю, что не бывает бесконечных дней, даже ночи, когда ты корчишься в лихорадке, борясь с болью, влажной простынёй, тиканьем часов, даже эти ночи кончаются… Вот и они уйдут, и не будут больше расходиться сверкающие круги по воде моей лужи. Они всё говорят и говорят, а больше всех Марта. Рассказывают о Париже и курортных городах, затихают, встревоженные моим молчанием: «Да вы его знаете, верно?» – и называют знакомые имена, чтобы зацепить мою память, словно кидают верёвку утопающему… «Да, разумеется…»– соглашаюсь я и снова ухожу в себя.
Солнечный луч движется по паркету, медленно, но верно. Останавливается и перешагивает в сад, на розовую щёчку самого красивого их моих персиков… Послушаем, о чём толкуют эти люди за большими запотевшими стаканами, в которых дрожит разбавленный холодной водой малиновый сироп… Они больше не обращаются ко мне. Они говорят между собой, словно я заснула и лежу где-то тут рядом…
– Она отлично выглядит, а, Можи?
– И да и нет. Потемнела, как потёртое седло. Краснодеревщик сказал бы, что её протравили морилкой. Но ей идёт.
– Лично я не замечаю в ней большой перемены, – усердствует Марта.
– А я замечаю, – тихо возражает Анни.
– Взгляд у неё стал душевней, – приятным голосом возвещает Леон Пайе, которого никто не спрашивал.
– Допустим, она теперь не такая резвая… – замечает Марта. – Но вообще-то поглядите-ка – сельская жизнь не портит внешность, как принято считать. Пожалуй, и мне стоит как-нибудь попробовать солнечные ванны – о них столько говорят… Мы увидим вас зимой в Париже, Клодина? Знаете, у меня есть для вас чудесная комната!
– Благодарю, Марта… Вряд ли…
Она обжигает меня, как кнутом, хлёстким сердечным взглядом.
– Да что вы, милочка! Нужно и меру знать!.. Пора очнуться, в самом-то деле! Зимой полтора года будет, как мы его потеряли… Встряхнитесь, чёрт побери!
Разве нет, Можи? Что вы все на меня так смотрите? Или я неправа?
– Правы, конечно, – застенчиво соглашается Анни. А Можи пожимает жирными плечами:
– Встряхнуться, встряхнуться! Оставьте вы её в покое! Я вообще не понимаю, как в такую жару можно встряхивать что-нибудь, кроме абсента!
Я улыбаюсь, чтобы хоть как-то отреагировать. Эти люди решают мою судьбу, рассматривая меня, словно я чернокожий раб, выставленный на продажу… Потом я встаю:
– Пойдёмте со мной, Анни, поможете мне срезать розы для вас и Марты.
Я увожу её, взяв под руку. Марта провожает нас неприязненным замечанием:
– Идите, идите, девочки, посекретничайте!
Жара шубой укутывает нам плечи, и я спешу, захлопнув за собой ставни, к тенистому озеру прохлады под старым орехом. Анни, размахивая руками, семенит следом. Её смуглая кожа просвечивает сквозь батистовую блузку, как шёлковая подкладка. Она молчит, созерцает с книжной меланхолией мои разрушенные, поросшие буйной растительностью владения: сад, который уже трудно назвать садом, ограду – орешник мощными корнями сначала проломил, а потом и вовсе опрокинул её, и теперь стала видна внутренняя рыжая и словно обгорелая поверхность камней, из которых она была сложена… Куст роз цвета бедра испуганной нимфы погиб – он умер от того, что слишком долго цвёл… Мгновенно разрастающаяся жимолость задушила мой прихотливый клематис, когда-то весь покрытый сиреневыми крупными нежными звёздами… Плющ погрёб под собой глицинию, изуродовал водосточную трубу, взобрался на крышу – она теперь полосатая – и, не находя себе новой опоры, протянул жирную скрюченную плеть с бугорками зелёных ягод, вокруг которых дрожат пчёлы…
– Тут нет цветов, – шепчет Анни.
Я окидываю её ласковым взглядом и беру за руки:
– Есть, Анни. В нижнем саду.
По заросшим аллеям, где деревья повыломаны, мимо одичавшего виноградника, жадно тянущего к нам цепкую лозу, я веду её в нижний сад – на узкую, солнечную, как грядки возле церкви, полоску земли, где я выращиваю самые заурядные цветы: флоксы, которые солнце окрасило в густо-фиолетовый цвет; размыто-голубой волчий корень; круглые, яркие, как мандарины, ноготки; коричнево-жёлтые бархатцы на жёстких стебельках – будто шершни забрались в их готовые разорваться чашечки… Вдоль шпалеры розовые кусты стоят колючей стеной у подножия персиковых и абрикосовых деревьев, и я на ходу ласкаю взглядом уже спелые абрикосы с гладкой кожей, которую солнце украсило чёрными родинками.
– Не колите себе руки, Анни. Вот секатор. Эти не нужно, они уже распустились. Для вас мы срежем чайные, они самые красивые. Нравятся?
Синие глаза Анни влажнеют… Такая у неё манера краснеть.
– Да, конечно, Клодина. Вы такая милая!
– И вовсе я не милая, крошка моя. Просто считаю, что они вам очень идут.
Я протягиваю ей розы головками вниз, чтобы тяжёлые цветки не облетели, и она берёт их. Уколовшись, теряет, хочет что-то сказать… Я лишь улыбаюсь, наблюдая за ней, но помочь, как прежде, не спешу…
– Какая вы милая, Клодина! – повторяет она. – Я не ожидала увидеть вас такой.
– Почему же?
– Я безумно боялась снова встречаться с вами, трусливо пряталась от вашего горя, не хотела видеть вас плачущей… При одной только мысли об этом я готова была удрать на край света… Меня застыдила Марта…
– Ваша Марта – сама предупредительность…
У Анни светлеет лицо, она осмеливается взглянуть на меня:
– О, вы сказали это совсем как прежде. Я так рада!.. Хотя мне удивительно, Клодина, что вы больше не…
– …что я больше не грушу?
Она кивает, и я взмахиваю рукой – мол, понимаю, что виновата, но ничего не могу поделать… Анни задумалась, она обрывает со стебля розовые, твёрдые и выгнутые, как когти тигра, шипы… Она напускает на себя неестественно важный вид и сдержанно спрашивает:
– Где похоронили Рено, Клодина?
Я дёргаю плечом в сторону заката, указывая невидимую точку:
– Да там, на кладбище.
И чувствую, что шокировала её. Могила Рено… миниатюрный загончик с крашеной оградой и белой надгробной плитой, которая после сильного дождя становится грязной… Я принуждаю себя ухаживать за ней. И делаю это без всякого трепета. Ничто здесь меня не волнует, ничто не держит. Ничего здесь нет от того, кого я люблю, о ком и сейчас думаю в настоящем времени: «Он говорит то… Он предпочитает это…» Что такое могила? Пустое вместилище. Тот, кого я люблю, живёт в моих воспоминаниях, в запахе носового платка, когда я его разворачиваю, в случайной интонации – я вдруг вспомню её и долго слушаю, склонив голову… Он в коротенькой записке – даже если выцветут её чернила, – в старой книге – я мысленно глажу её страницы; он так и остался сидеть – правда, только для меня – на скамейке, сидит и смотрит, как синеет в сумерках гора в Кайе. Разве это объяснишь?

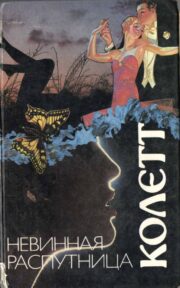
"Возвращение к себе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Возвращение к себе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Возвращение к себе" друзьям в соцсетях.