В этом эпизоде мне нравилось попеременно представлять себя то молодой, ничего не подозревающей зэчкой, то пожилым ловеласом.
К лешему баб!
Но дальше, дальше… Возможно, знаток «Колымских рассказов» Варлама Шаламова знает, что там дальше случилось, а внимательный читатель этого текста уже давно понял, к чему я веду. Так вот, позабывший о своем желании врач прилегает ухом к груди понравившейся «пациентки» и слышит странные хрипы, а затем тщательно обследует ее своим стетоскопом, находит серьезный изъян и на следующий день, уже при свете и без какой-либо похоти, начинает лечить (вполне возможно, что за полями рассказа эта вылеченная им пациентка ему отдается, но об этом Шаламов не пишет).
Что касается «родинки»: наконец я нашла в себе силы распечатать ее фотографию в полный рост, ту, где она изображала какую-то мутноватую музу в хитоне, и сквозь этот хитон, полностью не запахнутый, можно было любоваться прямой линией ног.
Какое-то время я и вглядывалась во все ее линии… Паузы ценю больше бездумной погони… ведь именно в передышках таится желание… когда больше возбуждает то, что только случится, а не то, что доступно рукам и рту здесь и сейчас… Все вступающие в интимные отношения выигрывают от ясновидения, потому что возбуждение вызывает представление в уме того, что случится… Что будет, если, уходя с ней с литературного вечера, я как бы случайно коснусь обтянутых волнистых холмов? Что, если как бы невзначай предложив вместе посмотреть видеофильм с парой эротических сцен, я именно во время обнаженного возлежания мужчины на женщине на экране придвинусь к ней на диване поближе? Ах да, ясновидение, проницательность на расстоянии километров… Так вот, к тому, что я уже на протяжении пары параграфов пытаюсь сказать.
Почти сразу же родинка на губе каким-то образом привела меня к ее легким, как будто какая-то горошинка пряталась там. Что-то свербило и не давало покоя… И тогда, решившись, в своем прощальном имейле Владлене в Равенну я сообщила ей, что у нее в легких явно что-то творится. Густой кровавый шрифт и ссылка на инструкции школы «Звездная пыль», которым полагается следовать при диагностике скрытых заболеваний, придали необъяснимой весомости этим словам.
Владлена довольно грубо ответила, что «в мою трясущуюся над каждым прыщичком матушку, Маргарита, давайте не будем играть, да и на роль заботливой медсестры Вы не годитесь», но, как потом стало ясно из записи, вычитанной в ее сетевом дневнике год спустя, к доктору все же сходила, и там у нее обнаружили легочный эмболизм, и она пролежала месяц в больнице, а то, что свое выздоровление она приписала именно мне, я знаю точно, иначе как объяснить пришедший на мой день рождения и отправленный с помощью «Интерфлоры» из далекой Равенны букет хризантем?
Дмитрий Емец
Аборт
Андрей Гаврилов, молодой предприниматель (стеклопакеты, витражи), вернулся из Челябинска, где был в командировке.
Выйдя из экспресса, доставившего его из аэропорта, он с некоторым подозрением, свойственным всем возвращающимся москвичам, втянул носом воздух, в котором сложно смешались запахи мокрого асфальта, автомобилей, свежевымытой листвы и ближайшей шашлычной.
Гаврилов был в хорошем легком настроении, как человек, завершивший хлопотное дело и предчувствующий нечто приятное. Ехать домой ему не хотелось, тем более что там не знали еще о его приезде, и он решил отправиться к своей любовнице Кате (собственно, он решил это еще в самолете).
Гаврилов поймал такси, уверенно бросил чемодан на заднее сиденье, а сам плюхнулся на место рядом с шофером. Шофер, маленький армянин с блестящей лысиной и сизыми щеками, вопросительно покосился на пассажира.
– Тухачевского знаешь? И давай, батя, побыстрее: к женщине своей еду, – сказал Гаврилов.
Шофер понимающе поднял кверху указательный палец. Всю дорогу Гаврилов шутил и травил байки, а в конце, не спрашивая сдачи, бросил на сиденье две сотни. Армянин же в качестве ответной любезности пожелал ему нечто предсказуемое, что в устах у русского звучит всегда скверно, а у южных народов, не вкладывающих в это никакого смысла, кроме изначально-плодородного, довольно мило.
Катя открыла ему сразу, будто ждала на пороге. Она была босиком, в синем домашнем халате. Темные волосы собраны сзади в пучок. Она стояла в прихожей, как солдат, опустив руки вдоль туловища, и смотрела на Гаврилова.
– Привет! Не узнала, что ли, Мумрик? Или у тебя любовник под кроватью? – удивился он, протягивая ей розы и бутылку красного вина.
Гаврилов всегда называл Катю Мумриком, находя это невероятно забавным. Катя взяла розы и поднесла к лицу, не нюхая их, не радуясь, а словно загораживаясь.
– Ты когда приехал? – спросила она сквозь букет.
– Только что, – Гаврилов кивнул на чемодан.
– Я тебя сегодня не ждала… Уже спать собиралась лечь, – задумчиво сказала Катя. – Ужинать будешь?
– Еще как! Я так голоден, что человека бы съел! – пошутил Гаврилов.
Пока он был за столом, Катя сидела к нему боком и смотрела, как он поглощает ужин. Во всей ее позе, в руках, машинально разглаживавших складки скатерти, в сутулившейся спине, в том, что она совсем не смотрела на свое отражение в зеркальной двери кухни, было нечто обмякшее, усталое…
Гаврилов смутно ощущал, что сегодня его любовница ведет себя иначе, чем всегда, но по своему обыкновению не пытался разобраться в женских настроениях, зная, что всё равно ничего не поймет. «Будешь в бабьи мысли вникать – сам обабишься!» – подумал он.
Поужинав, Гаврилов отодвинул тарелку и вытер губы полотенцем.
– Иди ко мне! Всё-таки десять дней не виделись, – с обычной бесцеремонностью сказал он и, посадив Катю к себе на колени, стал целовать её в подбородок, в шею, в губы, вначале неторопливо, а потом, по мере увлечения, всё быстрее.
Он предвкушал уже продолжительное удовольствие, которого был лишен все дни командировки. Обычно, когда он целовал ее так, Катя вначале начинала смеяться, потом наклоняла голову, словно пытаясь увернуться, потом на секунду замирала и порывисто обнимала его. Но сегодня что-то шло не так. После нескольких поцелуев она, словно очнувшись, отстранилась и встала.
– Что с тобой, Мумрик? – удивился Гаврилов.
– Мне сегодня нельзя, – сухо сказала Катя.
– А-а, – разочарованно протянул он. – Красный флаг?
– Нет… Я позавчера аборт сделала.
Гаврилов не сразу понял, что она ему сказала.
– Ты о чем, Мумрик? Какой аборт? – спросил он.
– Не знаешь, какие аборты бывают? Ути-пути! Почитай медицинскую энциклопедию. Это там одно из первых слов.
Катя говорила безучастным мертвым голосом, и, услышав этот голос, Гаврилов вдруг осознал, что всё сказанное правда.
– Я представляю, что такое аборт. А ребенок чей? – спросил он.
Катя посмотрела на него с ненавистью.
– Будто не знаешь, что твой! Небось еще и на тебя был похож, с таким же лицом, с такими же руками, ногами, такой же самоуверенный и эгоистичный… му… сволочь такая же! – отчетливо выговаривая каждое слово, сказала она.
Вскакивая, Гаврилов опрокинул стул и даже не заметил этого.
– Слушай, а сколько ему было? В смысле, ребенку… – зачем-то спросил он.
– Восемь.
– Чего восемь? Месяцев?
– Ты что, маленький? Кто тебе в восемь месяцев аборт сделает? Недель.
Внезапно Гаврилов понял, что всё то время, пока он был в командировке и еще почти семь недель до того, у него был ребенок. И только позавчера, всего каких-то тридцать-сорок часов назад, быть может, в то самое время, как он с бумагами ехал на завод за последней подписью, его ребёнок перестал существовать и лежит теперь в каком-нибудь хирургическом ведре, похожий на кусочек сырого мяса.
Гаврилов никогда раньше особенно не задумывался о детях и не спешил ими обзаводиться, хватало одного, от жены, но теперь, когда он узнал, что вот так просто и легко, утаив от него, взяли и убили его ребенка, его вдруг захлестнуло глухое раздражение, почти ненависть к стоявшей рядом женщине.
– Не понимаю, зачем ты это сделала. Могла бы и со мной проконсультироваться, ведь меня это тоже касается.
– И что бы ты проконсультировал? – с иронией напирая на это последнее слово, спросила Катя. Она, конечно, издевалась, но в глазах были и жадное любопытство, и нетерпение.
– Сейчас об этом не время говорить. Поезд ушел. Но, по-моему, вполне можно было оставить, – чуть поколебавшись, ответил Гаврилов.
– Оставить? – крикнула Катя. – Ты телевизор давно смотрел? Зачем ребенку сейчас жить?! Всюду насилие, грязь, инфекции, радиация! Чтобы он жил в этой гребаной стране, где всем на всех наплевать? А если война будет, это ты понимаешь?
Гаврилов слушал ее, кривясь. В словах Кати, явно услышанных ею от кого-то еще и теперь, точно на уроке, повторяемых, он не видел логики, а видел лишь беспомощные попытки оправдаться.
– Тебе не надоело? Ты сама себя обманываешь! – сказал Гаврилов.
Катя покачнулась, будто он толкнул ее в грудь. Ее лицо как-то съежилось, стало маленьким и некрасивым.
– Значит, я виновата, убийца я, а ты чистенький? – крикнула она. – Сейчас-то просто врать, что ты его хотел! А ты не хотел, не хотел! Помнишь, я когда-то спрашивала, почему у вас с женой всего один ребенок, и ты сказал: «Да ну их! Чего дураков плодить?»
Катя кричала, нелепо, нерасчетливо всплескивая руками. Голос у нее звучал жалко, визгливо. Кожа на лбу собралась в четыре складки – первая у бровей была самая толстая. В этот момент Катя – всегда тщательно следившая за собой – была очень некрасива, но она не замечала этого, и Гаврилов не замечал.
– Не придирайся к словам! – рассердился Гаврилов. – Мало ли что я сказал и в каком контексте? Главное – как бы я поступил. Ты меня даже не поставила в известность! Ведь когда я уезжал в Челябинск, ты уже знала о ребенке?
– Знала. Но сомневалась, оставлю его или нет.
– Значит, всё-таки сомневалась?
– Конечно. Первые недели я даже хотела оставить его. Даже почти решилась тебе сказать.
– А почему не сказала?
– Не сложилось в тот вечер. Ты тогда с собой ещё этого идиота приволок…
– Замятникова? Он не идиот.
Катя его не слушала. Она слушала себя.
– Идиот! Запускал глаза мне под юбку и вытирал моей рукой свои жирные губы – рыцарь, видите ли! А на другой день ты позвонил и сказал, что уезжаешь «в камандироффку», – с ненавистью передразнила Катя. – Я была уверена, что ты меня бросаешь. Вначале притащил этого оплывшего мерзавца себе на замену, а сам…
Гаврилов понял, что это очередная ложь, но не ему, а самой себе, ложь, так тесно слитая с правдой, что уже нельзя отличить, где ложь и где правда. Если сейчас разрушить все доводы Кати, снести все её бастионы убедительной лжи, останется только голый факт – а именно то, что она сделала аборт, убила в своем чреве его, гавриловского, ребенка. Ему опять стало больно и досадно. Он пожал плечами.
– Это всё ерунда, эмоции! Я тебя не бросал, и ты это отлично знаешь.
– Но ты мне даже не звонил оттуда!
– Неправда, звонил.
– Да, звонил! Один раз за все десять дней! И слышал бы ты свой голос: холодный, равнодушный. Сказал, что не знаешь, когда приедешь. И женский смех откуда-то доносился. Небось был там с какой-нибудь шлюхой, с мерзкой, вонючей, заразной шлюхой!
– Ни с кем я там не был! Я звонил из пиццерии, – возмутился Гаврилов. – И вообще, ты могла позвонить сама. Телефона не было?
– Не могла. И не хотела.
– Неправда, что не хотела. Тебе нужен был повод, чтобы убить моего ребенка и свалить с себя вину.
– Твоего ребенка! – горько передразнила Катя. – Вот именно, твоего! Да тебе плевать на него, главное только, что он «твой!» «Моя машина», «моя квартира», «моя дача», «мой ребенок»! А вот нет его уже – твоего! Тю-тю! Раньше надо было приезжать!.. Скажи, если бы я оставила ребенка, ты бы развелся с женой?
– Это беспредметный разговор! – сухо обрубил Гаврилов. – Ребенка уже нет, значит, нет и повода для обсуждения.
– Не хочешь отвечать? Тогда я сама тебе скажу! Ты бы ее ни за что не бросил, хотя и обманываешь с кем попало! Думаешь, твоя жена тебя любит? Её это тоже вполне устраивает! Ты трус, неудачник, эгоист, похотливый кобель!
Под конец Катя перешла на визг и стояла напротив Гаврилова, наклонившись вперед и с ожесточением глядя на него. Она выкрикивала ужасные оскорбления, всё то, что скопила за долгое время, и каждое ее слово было справедливо и несправедливо одновременно. Она не замечала ни своего распахнувшегося халата, ни высоко, чуть ли не под грудь, подтянутых колготок, ни того, что ее лицо стало злым, почти старым и на нем обозначились все складки и морщины, незаметные до сих пор. Появилось много такого, о чем Гаврилов прежде не подозревал. Например, что самый дальний нижний зуб выглядит неважно, а на боковом зубе несколько крупных темных точек. И как он раньше этого не видел?

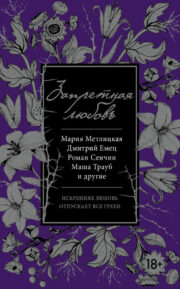
"Запретная любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Запретная любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Запретная любовь" друзьям в соцсетях.