Будто беда уже не обступила Мэри Фишер со всех сторон, словно волны Башню, с того дня, как Боббо бросил ради нее свою жену.
Отец Фергюсон говорит, что это не беда, а Божья кара за ее грехи. И в этом ей крупно повезло, говорит он, ибо на нее снизошло благоволение Господне. Кого Он решил покарать в сем мире, а не в ином, того Он воистину возлюбил.
Отец Фергюсон всласть отвел душу в винном погребе Мэри Фишер, перепробовав все ее лучшие вина. Правда, запасы оказались не так уж велики. Закупкой вина у Мэри Фишер всегда ведали мужчины, но в последнее время мужчины исчезли из ее жизни.
Это знак времени — все постепенно приходит к концу. И так всюду, куда ни взгляни. Ребенок Гарсиа и Джоан родился с пороком сердца. У нее нет оснований желать этому младенцу, тем более его нечистой на руку матери, какого-то особого счастья, но видеть их несчастье и отчаяние ей тяжело. Отец Фергюсон говорит утешительные слова и объясняет ей суть любви Всемогущего Господа Бога, и у него каким-то образом — она не может запомнить, каким именно, — получается, что любовь эта даже боль и муку делает сладостными.
Мэри Фишер рассказывает отцу Фергюсону о том, как она обошлась с женой Боббо и его детьми. Она говорит, что осознала, какое зло причинила им. Говорит, что сама понимает: любовь не может служить оправданием дурных поступков. Она хочет знать, как ей исправиться.
— То, что выходит из-под вашего пера, есть зловредное пустозвонство, — без обиняков заявляет отец Фергюсон. — Вы обязаны остановить себя. Это и будет первый шаг на пути к исправлению.
Как, еще и это? Отец Фергюсон разъясняет ей, что она сломала жизнь миллионам своих читательниц: она поселила в их душах ложные надежды. Она несет персональную ответственность за печальную судьбу несметного количества женщин. Даже пристрастие ее современниц к валиуму он ставит ей в вину. Рука Мэри Фишер, скользящая по листу бумаги, дрожит и замирает.
Отец Фергюсон говорит, что Господь всемилостив. Он простит искренне раскаявшихся, если они уверуют. Мэри Фишер жаждет прощения. Она желает уверовать, принять католичество — и принимает.
Обретя в новой вере душевный комфорт, Мэри Фишер заодно обретает былую округлость и привлекательность. Она и отец Фергюсон вместе совершают молитвы, два раза в неделю. Он ужинает у нее по вторникам и четвергам — в четверг еще и ночует. Спасти этот мир, а не усугублять бремя его страданий — вот на что она жаждет употребить свое имя, славу, репутацию. Она садится за новый роман — «Жемчужный чертог любви». Роман о монахине и ее борьбе за возвышенную, небесную любовь. Издатели в восторге.
Отец Фергюсон гораздо более сдержан. Он объясняет Мэри Фишер, что любовь небесная и любовь земная не есть понятия взаимоисключающие.
— Существует еще художественная правда, — говорит на это Мэри Фишер, переводя разговор в профессиональное русло, где она чувствует себя увереннее всего. — Для книги это самое главное. А если я на ней заработаю, как знать, может, я построю здесь часовню.
Его шокируют ее слова — во всяком случае, он делает ей внушение. Это происходит под вечер в четверг. Она уходит в свою комнату и там плачет, а он остается один. Гарсиа напрягает слух в ожидании шагов отца Фергюсона — вслед за ней, вверх по каменным ступеням, к серебристо-белой спальне Мэри Фишер, — но в доме тихо. Он доволен: он уже начал было ревновать. Мэри Фишер вновь являет собой предмет его вожделения — он разочаровался в Джоан, которая, во-первых, воровата, а во-вторых, произвела на свет неполноценного ребенка. И тогда он сам идет в спальню Мэри Фишер.
Все происходит так, словно время, давно остановившееся, впавшее в спячку, вдруг очнулось, заскакало как бешеное и проглотило собственный хвост — и она вернулась к тому, с чего все началось. Неужели она излечилась от Боббо — наконец-то?!
А потом в спальню входит отец Фергюсон, и Гарсиа в мгновенье ока исчезает — священник есть священник.
Мэри Фишер цепенеет от ужаса.
— Пусть ободрится дух твой, — говорит отец Фергюсон, запросто присаживаясь к ней на постель. — Сравнительно с другими, сей грех невелик и простителен.
Но она не верит ему. Она все понимает. Она исповедует любовь, а предается похоти, поклоняется Богу, но повинуется дьяволу. Даже страсть к Боббо не может ее спасти. Она теперь воспринимает его как существо мифическое, вроде русалки — ниже пояса один рыбий хвост и больше ничего.
Она раздавлена. Она, в ком отец Фергюсон признал христианскую душу, застигнута в разгар непристойного барахтанья и пыхтения — точно животное, точно сучка-доберманиха, если не хуже.
Мэри Фишер видит, как Бог удаляется прочь из ее жизни: становится все меньше и меньше, тает, исчезает в бесконечности — покидает ее без прощения, оставляет ее с ее виной.
— Настало время объявить перемирие, — на удивление спокойно говорит отец Фергюсон, — перемирие между добром и злом, душой и телом, духом и плотью. Добро Должно вобрать в себя зло, как целое — часть. Грядет новый Бог, который не отринет грех, но примет его в свои объятья. Ибо спасемся не иначе, как через познание самих себя.
Так, значит, он хочет забрать у нее последнее — ее вину! Больше ведь у нее ничего не осталось. Это единственный оплот порядка в безумном хаосе ее жизни.
— Все на свете должно меняться, — говорит отец Фергюсон. — И грех в этом смысле не исключение. — Но уж больно он в этот момент смахивает на чосеровского капеллана — упитанный, охочий до всего, и очень всем довольный, как будто он всю жизнь был тут неподалеку и только ждал момента, чтобы собрать дань. Он обхватывает ее миниатюрное тело большими, сильными руками, обвертывает его в просторную коричневую сутану. Сутана у него из тонкой шелковистой шерсти, не какая-нибудь колючая дрянь. — Не должно отвергать наши негативные порывы, — говорит он. — Мы Божьи твари, и все в нас — от Бога. Восславим же плоть, как славим мы душу!
Что ж, мои уроки он усвоил неплохо. Я желаю священнику добра, Мэри Фишер — зла. Гарсиа перестает подглядывать в замочную скважину, и я больше не вижу, что происходит за закрытой дверью. Но я знаю одно: если она не прочь с Гарсиа, то будет не прочь и с ним; если он не прочь со мной, то с ней и подавно — и на здоровье, жаль только дарить Мэри Фишер хотя бы десять минут удовольствия. Больше он ей не подарит.
Не спорю, мне нравится немного подразнить Мэри Фишер, потрясти у нее перед носом крохотной звездочкой надежды — чтобы тут же ее и отдернуть. Почему бы нет, собственно говоря? Я помню, как я готовила грибной суп, в надежде угодить Боббо, увидеть его благодарную улыбку, и волованы с курятиной, надеясь заслужить его одобрение, и шоколадный мусс — все ради того, чтобы он оставил ее и вернулся ко мне. А он не вернулся. Ну и пусть теперь получает все, что заработала, и не возникает. Ничего другого ей не остается.
Тем временем я приметила, что возле церкви ходит кругами страховой агент — тот самый, который приходил в Совиный проезд после пожара: пепел разгребал. Конечно, он вряд ли признает во мне ту покорную, раздавленную горем, надышавшуюся до тошноты едким дымом огромную тетку, которая смотрела, как в огне исчезает ее дом. Теперь я стройна, энергична, проворна. И все же осторожность подсказывает — пора уносить ноги. У стервятников острый глаз.
Однако я все-таки недостаточно похудела, нужно сбросить еще шесть килограммов. Разменивая монету достоинством в жизнь отца Фергюсона, превращая аскета в эпикурейца, я вынуждена была чем-то пожертвовать. Теперь я знаю совершенно точно: женщины толстеют по вине мужчин.
Я должна уйти туда, куда мужчинам путь закрыт. В любом случае, мне здесь больше не нравится. Отец Фергюсон, разумеется, продал землю компании по недвижимости — теперь у начальства в любимчиках. Рабочие из фирмы, подрядившейся снести дом, то и дело приходят произвести необходимые замеры — так гробовщики измеряют тело, прежде чем сколачивать гроб. Я видела, как этот дом умирал, я сама навлекла на него погибель. Теперь это уже неважно. Изгнав из него духов, я отняла у него душу.
29
Руфь вступила в коммуну феминисток-сепаратисток. Женщины эти не имели с миром мужчин никаких дел. Ее приняли радушно, как свою. Она назвалась именем Милли Мейсон. Одета она была в точности как они: джинсы, футболка, грубые башмаки и спортивная куртка; документов у нее никто не спрашивал. Она была женщина, за что и пострадала, и больше им ничего не требовалось. Ее новые подруги не употребляли в пищу ни мяса, ни молочных продуктов и сексуальное удовлетворение получали, общаясь между собой. Они были свободны от желания нравиться мужчинам, хотя многие явно не могли бы не нравиться. Амазонки, как они сами себя называли, жили лагерем неподалеку от города в домиках на колесах, сгрудившихся вокруг заброшенной фермы. Они возделывали поле площадью в четыре акра и выращивали зерно, бобы и лекарственные травы — окопник и тысячелистник: собранный урожай они обрабатывали и продавали в магазины, торгующие экологически чистыми продуктами. Они растили дочерей, но не сыновей — способы, с помощью которых они избавлялись от младенцев мужского пола, посторонним могли бы показаться варварскими; сами же они считали их вполне оправданными.
Руфь была физически сильна, расторопна и начисто лишена того, что Принято называть «женские штучки». Она честно старалась вносить свою лепту и помогать общине, но в душе радовалась, что задержится здесь ненадолго. Ей бы не хотелось остаться в их мире навсегда. В нем не было ни одной живой искорки — все сплошь джинсовое, все практичное, немаркое, словно насквозь пропитанное мутными сточными водами чистилища, нигде ни отблеска дразнящего адского пламени.
Но жизнь здесь была не из легких, пища богата клетчаткой и бедна жирами, и с каждой неделей джинсы все свободнее повисали на ней, пока она не жалея сил ходила за плугом или работала лопатой и мотыгой попеременно. Взвешиваться ей было не на чем, и даже зеркало удалось найти с большим трудом.
— Какая разница, как ты выглядишь? — отмахивались от нее старожилы. — Важно, как ты себя ощущаешь, остальное ерунда.
Но она-то знала, что тут они заблуждаются. Она хотела жить на стремнине, чтоб от скорости захватывало дух, а не хоронить себя в этом стоячем болоте незыблемых идейных принципов. Но вслух она этого не высказывала. Не то живо оказалась бы без крыши над головой. Феминистки не жаловали тех, кто не разделял их убеждений: таких торжественно объявляли антиамазонками.
Когда Руфь заметила, что ее талия и бедра по объему почти сравнялись, она позвонила мистеру Рошу из телефона-автомата. В коммуне телефонов не было, ведь телефон — это элемент мужской технократии, а значит, один из инструментов порабощения. И, кроме того, зачем вообще женщинам связь с внешним миром?
— Пятнадцать килограмм? Вы сбросили пятнадцать килограмм?
— Думаю, даже больше.
Он назначил ей явиться на следующей неделе, чтобы ее смог досмотреть мистер Чингиз, который, подчеркнул он, специально для этого прилетит из Лос-Анджелеса.
— Вы очень интересная пациентка.
— Это почему же?
— Есть над чем поработать!
— Мне нужно, чтобы я выглядела так, как я хочу, а не так, как хочет он, — напомнила она.
На несколько секунд воцарилось молчание.
— Это может вылиться в большую сумму, очень большую, — произнес наконец мистер Рош.
Руфь перевела свои деньги из Швейцарии в лос-анджелесский банк; никаких трений не возникло. Потом зашла в книжный магазин и купила экземпляр романа «Жемчужный чертог любви».
— Как продается? — спросила она.
— Хуже некуда, — сказала заведующая. — Кому нужно это религиозное занудство! — И она крикнула своей помощнице: — Элис, убери с полки всю Фишер. И заруби себе на носу: на полки ставить только ходовой товар!
Руфь вырезала из суперобложки портрет Мэри Фишер, а книгу выбросила в урну. Взгляд Мэри Фишер был устремлен в небо, на фоне которого выделялся ее аккуратненький, нежный профиль, — так, словно у нее прямой канал связи с самим Господом Богом. Глядя на нее, вы видели, какая она обворожительная, счастливая и — миниатюрная. Руфь прошлась по магазинам в поисках других романов Мэри Фишер, рассчитывая найти ее фотографию в полный рост, и ей повезло — она нашла то, что искала.
Взглянув на фотографии, мистер Чингиз даже присвистнул.
— Ну и ну! Задали вы мне задачу!
— А что такое? — спросила Руфь недовольно.
— Волосы не проблема, лицо тоже сделаем — черты классические, сами видите. Рост будет посложнее, но справиться можно. Челюсть уменьшим, и линия губ сама встанет на место. У нас такой принцип: сначала внутренние работы, потом наружные, насколько это возможно, разумеется. Тело тоже поддается существенным изменениям — сумели же вы похудеть до неузнаваемости! Кстати, как вам это удалось?

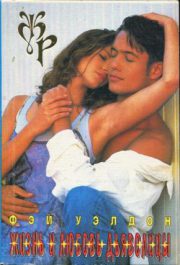
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.