«Время — деньги», — назидательно говорил Энгус, поторапливая сына быстрей собираться в школу. «Жизнь — это время, а время — деньги». Иной раз Боббо ходил в школу пешком, потому что денег не было даже на автобус. Но бывало и так, что к школе его доставляли на «роллс-ройсе» с шофером. Пока Боббо рос, Энгус ухитрился сколотить два миллиона и потерять три. Жизнь, сплошь состоящая из взлетов и падений, — не каждый, мальчишка проходит такую школу. «Пока ты тут возишься, — говорил он малышу Боббо, который непослушными пальцами пытался завязать шнурки на своих детских ботиночках, — я бы уже тыщу фунтов заработал, не меньше».
Секс-прейскурант, рассуждал Боббо, должен был бы учитывать, с одной стороны, финансовые потери (количество времени, помноженное на стоимость одной минуты каждого из партнеров) плюс затраты энергии, а с другой стороны, меру полученного удовольствия плюс стимул для новых дел и свершений. Акт совокупления с министром, даже если он наполовину импотент, тянет долларов на 200, тогда как домохозяйка, пусть даже самая темпераментная, все равно больше жалких 25 долларов не стоит. Получалось, что половой акт с Мэри Фишер, принимая во внимание высокий уровень ее доходов и щедро растрачиваемую энергию, может быть оценен в 500 долларов. Любовь его жены — 75 долларов за раз, но тут, конечно, неизбежен постоянный сдвиг в сторону дебета из-за частоты употребления и доступности. Чем чаще имеешь дело с одним и тем же сексуальным партнером, считал Боббо, тем ниже получаемое удовольствие.
Мать Боббо в очередной раз выдернула каблуки из рыхлой, ухоженной земли Руфиной лужайки, поманила мужа и вместе с ним направилась к парадному входу. По пути она заглянула в окно гостиной и там, надо же, увидела прямо перед собой внушительную спину и зад Руфи, которая склонилась над проигрывателем, выбирая подходящую музыку, чтобы услаждать слух гостей до и после ужина.
Руфь распрямилась и треснулась головой о дубовую балку над камином. Дом явно не был рассчитан на обитателей с такими габаритами.
Когда свекровь приблизила лицо к окну, чтобы немного пошалить, Руфь обернулась. Даже через стекло было видно, что она плакала. Лицо у нее опухло, веки покраснели.
— Хандра! — вполголоса объяснила Бренда Энгусу. — Обычное дело в этих пригородах! От нее никто не застрахован, будь ты хоть трижды благополучен.
И тут у них на глазах Руфь воздела руки с растопыренными, как когти хищной птицы, пальцами к зеленовато-синему потолку гостиной — и выше, к небу, — словно призывая какого-то карающего бога, какую-то неотвратимую судьбу сойти на землю.
— По-моему, она сегодня немного не в себе, — сказала мать Боббо, вынужденная против воли признать очевидное. — Надеюсь, она расстроилась не из-за Боббо. Родители Боббо отошли от окна и уселись на низенькой скамейке в саду; там, глядя, как над Совиным проездом сгущаются вечерние сумерки, они от нечего делать поговорили о жизни — своей собственной и вообще.
— Подождем тут, пусть успокоится, — сказала мать Боббо. — Гостей принимать ох как непросто, даже если собираются только свои — все на нервах!
У нее на все случаи жизни было припасено участливое слово и милое объяснение. Просто непонятно, в кого Боббо уродился таким неугомонным, деятельным, тщеславным — вечно-то он был недоволен тем, что имел. Отец Боббо вполне разделял склонность жены к так называемому позитивному образу мыслей: в шестидесяти шести и двух третях случаев из ста этот способ мышления себя оправдывал. Когда считаешь, что все что ни делается — к лучшему, то, как правило, так оно и бывает, и следовательно, самое мудрое — отойти в сторону и пустить все на самотек. Но Боббо, в отличие от своих родителей, не желал полагаться на волю случая. Боббо желал иметь стопроцентные гарантии успеха, на меньшее он был не согласен.
Боббо наконец закончил одеваться. Вещи его всегда были безупречно выстираны и лежали наготове аккуратными стопочками, и он привык принимать это как должное. Когда он оставался у Мэри Фишер, обязанность содержать в порядке его вещи брал на себя слуга, Гарсиа; и э то тоже Боббо принимал как должное.
«Что у Мэри Фишер сегодня на ужин?» — подумал Боббо, не ведая, что тот же вопрос чуть раньше задавала себе его жена, и ему захотелось стать кусочком изысканного деликатеса, который его любовница положила бы себе в ротик. Ах, какое блаженство, когда тебя вот так целиком, без остатка, поглощают, вбирают в себя!.. Ломтик лосося, долька апельсина, глоток шампанского!..
Вот чем любила полакомиться Мэри Фишер, дразня ваше воображение и пробуждая разные фантазии. Ох уж эта Мэри Фишер! Изысканна до невозможности. «Если купить немного свежезасоленной семги, — приговаривает она, — это выйдет не дороже, чем много-много банок консервированного тунца. Зато вкус — не сравнить!»
Это не совсем ложь, но и не правда, это так типично для всего, что Мэри Фишер изрекает и что она пишет.
Боббо вошел в гостиную и увидел свою великаншу-жену, хватающую воздух растопыренными пальцами.
— Чего ты плачешь? — спросил он.
— Да головой больно стукнулась, — сказала она, и он удовлетворился этой ложью, поскольку с минуты на минуту должны были появиться родители и, кроме того, он с некоторых пор потерял интерес к тому, что говорит или что делает его жена и почему она плачет. Уже в следующую минуту он напрочь забыл о Руфи и задумался над вопросом, который в последние дни все чаще его беспокоил: как бы поточнее узнать, что за отношения у Мэри Фишер с ее лакеем Гарсиа? Гарсиа нарезал к столу прозрачными ломтиками семгу, открывал шампанское и протирал снаружи и изнутри оконные стекла на нижних этажах. Остальную, более грязную работу по дому, он перепоручал женской прислуге. За свои труды Гарсиа получал 300 долларов в неделю, то есть в два раза больше, чем слуги-мужчины получали у других клиентов Боббо. Гарсиа подавал хозяйке кофе в маленьких кофейничках, которые он оставлял для нее на большом стеклянном столе с тускло отсвечивающим стальным стержнем вместо ножки; за этим столом Мэри Фишер писала свои романы — на тончайшей бумаге, ярко-красными чернилами. Почерк у нее был мелкий, ажурный, как паутинка. Гарсиа был высокий, упитанный молодой брюнет с красивыми длинными пальцами — знать бы еще, не забредают ли эти его пальцы куда не надо, невольно подумал Боббо. Лет Гарсиа было двадцать пять, и вид у него был такой, что мозг Боббо тотчас настраивался на сексуальную волну.
«Фи, Боббо! — укоряла его Мэри Фишер. — Уж не ревнуешь ли ты? Побойся Бога! Гарсиа мне в сыновья годится!»
«Ничего, Эдипу это не помешало», — ворчливо буркнул тогда Боббо, и Мэри Фишер ужасно смеялась. Какой очаровательный у нее смех, и как легко ее насмешить. Боббо хотел, чтоб никто, кроме него, не слышал, как она смеется. Но невозможно же в самом деле все время сидеть возле нее? Хотя это был единственный способ удержать ее при себе и надежно обеспечить ее верность. Но, с другой стороны, Боббо нужно было зарабатывать деньги, трудиться, выполнять отцовские обязанности и, между прочим, супружеский долг, какой бы неуклюжей, слезливой и надоедливой ни была его жена. Он понимал это так: женился — неси свой крест до конца. Он терпит, и Руфь потерпит.
Жена казалась ему настоящей великаншей, а с тех пор, как он поведал ей о своей любви к Мэри Фишер, она в его глазах достигла и вовсе гигантских размеров. Он поинтересовался, не прибавила ли она в весе, но она сказала: «Нисколько», — и для доказательства влезла на весы. Девяносто. Вроде даже на полкило похудела! Надо же, значит, это ему только показалось, что ее так разнесло.
Боббо поставил на проигрыватель пластинку. Он надеялся, что музыка заглушит рыдания жены. Для успокоения нервов — ее и своих собственных — он выбрал Вивальди. «Времена года». И что зря слезы лить? Чего ей от него надо? Можно подумать, он когда-то говорил, что любит ее. А может, и верно — говорил? Напрочь выпало из памяти.
Руфь вышла из комнаты. Он услышал, как открылась дверца духовки — потом вскрик, грохот железа. Пальцы себе обожгла. И все волованы попадали на пол, как пить дать. А пронести-то противень нужно было всего чуть-чуть — от плиты до стола.
Боббо врубил музыку на полную громкость и, войдя на кухню, увидел на линолеумных плитках пола месиво из полужидкой начинки и теста. Собака и кошка уже были тут как тут и дружно принялись за дело. Он слегка поддал прожорливым бестиям ногой и вытолкал их в сад, потом решительно усадил Руфь в кресло и строго велел ей подумать о детях, которые из-за ее поведения на себя не похожи, и принялся методично собирать с пола все, что можно было собрать, не нарушая норм гигиены. В результате ему удалось в общем и целом воспроизвести первоначальный замысел пусть не в виде пирожков, но по крайней мере некое подобие большой ватрушки с куриной начинкой вновь возникло на противне. Из соображений гигиены, нижний слой, непосредственно соприкасавшийся с полом, Боббо не тронул. Ущерб от пропавших таким образом продуктов он оценил приблизительно в два доллара.
Он стал звать кошку и собаку, чтобы они пришли и подлизали остатки, но те обиженно сидели за порогом и возвращаться не желали. Мало того, они демонстративно устроились на стене ограды, неподалеку от его родителей, и, последовав их примеру, стали дожидаться, когда семейная атмосфера переменится к лучшему.
— Ну, хватит, уймись, ради Бога! — взмолился Боббо. — Что ты из всего делаешь событие? Велика важность — родителей в гости пригласили! Не тот случай, когда надо выворачиваться наизнанку. Обычный ужин, безо всяких там выкрутасов, вот все, что им нужно!
— Не все, не все! Но я не из-за этого плачу.
— А из-за чего?
— Сам знаешь.
— А, вот оно что. Мэри Фишер. Понятно. — Он попробовал ее урезонить: — Ты что же думала, если я женился на тебе, то я уж и влюбиться ни в кого не могу?
— Представь себе, думала. Все так думают.
Он обманул ее, предал, это было для нее яснее ясного.
— Но ты-то же не все, Руфь.
— Куда уж мне, уродине! Ты это хотел сказать?
— Да нет же, нет, — и в голосе его зазвучали сочувственные нотки, — я это к тому, что у каждого из нас свои особенности.
— Но мы с тобой муж и жена. Мы как бы одна плоть.
— Мы с тобой поженились только потому, что в тот момент нас обоих это устраивало. Надеюсь, память тебе не изменяет?
— Конечно! Ты очень даже удобно устроился!
Он рассмеялся.
— Что тут смешного, не понимаю?
— Да то, что ты мыслишь штампами — и штампами говоришь.
— Не штампами, как я догадываюсь, мыслит Мэри Фишер.
— Само собой разумеется. Она же творческая личность.
Энди и Никола, их дети, вдруг возникли на пороге кухни: он — маленький, легонький, она — крупнотелая, массивная. Все наоборот. В нем было больше девчоночьего, чем в ней. Боббо во всем винил Руфь, подозревал, что она это нарочно подстроила. Когда он смотрел на детей, у него сердце кровью обливалось. Изо дня в день повторялась эта пытка, эта игра на обнаженных нервах. Чем так, лучше бы им было совсем не появляться на свет, хотя при всем том он их любил. Но они стояли между ним и Мэри Фишер, часто снились ему по ночам, и в этих странных снах все кончалось очень плохо.
— Можно мне пончик? — спросила Никола. Когда у них дома накалялись страсти, она всегда просила дать ей поесть. Весила она много больше, чем следовало. Естественно, в ответ она услышит «нельзя», и тогда у нее будет повод надуться, разобидеться, и тут-то папа с мамой наконец перестанут мучить друг друга. Им будет уже не до того — надо же отчитать ее как следует, и, значит, между собой они ругаться больше не станут; по крайней мере, ей это представлялось именно так. Но вышло иначе.
— У меня заноза в пятке! — заявил Энди. — Видите, как я хромаю?
Старательно припадая на одну ногу, он прошел через кухню, прямо по размазанным по полу остаткам начинки, и заковылял в гостиную, оставляя на ковре жирные следы. Ковер был темно-зеленый, стены посветлее — цвета авокадо, а потолок выкрашен под морскую волну, с голубоватым оттенком: все вместе создавало спокойную, традиционно-респектабельную гамму. Боббо прикинул, что жирные пятна на ковре обойдутся в лишних 30 долларов, когда дело дойдет до чистки. На сей раз обычной чистки будет недостаточно, придется заказывать специальную.
В саду перед домом, выждав условное количество минут, Энгус и Бренда наконец решили, что Руфь уже поуспокоилась и можно входить. Они поднялись со скамейки и по дорожке направились к дому. У двери они позвонили в музыкальный звонок: блюм-блям!
— Сделай милость, не позорь меня перед родителями! — взмолился Боббо, и Руфь заплакала еще громче: она с шумом хватала ртом воздух, вздымая могучие плечи. И слезы-то у нее не как у нормальных людей — льют в три ручья. Вот у Мэри Фишер, вспомнил Боббо, слезки аккуратные, трогательные, катятся одна за другой, словно бисер. На матримониальном рынке, буде таковой вдруг открылся бы, слезы Мэри Фишер котировались бы куда выше, чем эти потоки. Да, если бы такой рынок и впрямь существовал, он первым делом сбыл бы с рук свою жену.

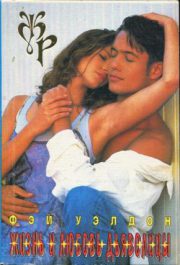
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.