В конце концов я научилась заряжаться энергией от земли. Я шла в сад и поддевала вилами комья земли, и небывалая мощь входила в пальцы ног, поднималась по тугим икрам и оседала в моих, уже дьяволицыных, чреслах — как постоянное напоминание, как зуд. Это был знак: пришел конец ожиданию, настала пора действовать.
10
Карвер жил в сарае на краю Райских Кущ, возле стадиона, где он работал сторожем. Ему перевалило за шестьдесят, лицо у него было небритое и морщинистое, но глаза блестели по-молодому. На руках кожа у него была грубая и красная, зато на животе — белая, тонкая и упругая. Сарай стоял на стыке теннисных кортов и беговой дорожки и служил для того, чтобы Карверу было где хранить газонокосилки и прочий инвентарь и где находиться самому, карауля вверенное ему имущество в течение дня. В последнее время он и ночевал тут же: устраивался на каком-нибудь мате, прикрывался замусоленным одеялом — иногда спал, иногда просто лежал. Жалованье ему платили из местной казны — отчасти из милосердия, отчасти за работу. Он исправно докладывал о налетах пчел на охраняемую территорию и нещадно гонял мальчишек и влюбленные парочки.
Считалось, что Карвер повредился головой, спасая тонущего ребенка, — было это давно, на каком-то далеком побережье. По этой причине представительницы женского населения Райских Кущ, подавая очередную петицию с требованием найти ему замену, не настаивали, чтобы его попросту вышвырнули с позором, а лишь просили досрочно отправить его на пенсию. Замужние женщины, матери семейств, по дороге в школу за детьми или в магазины вынуждены были ходить мимо стадиона, поскольку именно там пролегала дорога и в школу, и в магазины, и всякий раз им приходилось ускорять шаг и прятать глаза. Иногда он просто пялился на проходящих женщин, а иногда расстегивал штаны и кое-что им показывал. И хотя ни одна из обвинительниц лично с этим безобразием не сталкивалась, у всех находились какие-то знакомые, которые это видели.
Карвер смотрел на дорогу, по которой к нему приближалась Руфь. Ему нравилось, что ее темные глаза полыхают огнем, нравилась ее могучая поступь. В отличие от прочих замужних дам и мамаш, обутых в изящные туфельки на каблучках, она не семенила мелкими шажочками. На ней были туфли без каблуков — может, потому что на ее Ножищу ни одни модельные туфли просто не лезли. Карвер не сомневался, что рано или поздно она зайдет к нему на чашку чая. Он всегда заранее знал, с кем у него возникнет близость, как знал и другое: все, что от него (и вообще от любого) требуется, когда будущий партнер зафиксирован сознанием, это набраться терпения и ждать. А любовь — и это он понял очень давно — не что иное, как способность предвидеть либо блаженство, либо муку.
Карвер умел желать — но желать не до безумия, он умел надеяться — но не до отчаяния, и ждать — но не до бесконечности. Карверу нравилось плыть по течению судьбы: то немного отнесет в одну сторону, то в другую, то вдруг бросит в водоворот желаний и надежд — словно рыбка в безмятежном потоке времени.
— Заходи, чайком побалуемся, — окликнул он ее из-за ограды теннисного корта, когда она поравнялась с ним. И она зашла.
Руфь пила чай из потрескавшейся кружки. В железной печке у дальней стены сарайчика догорали дрова, хотя стояло лето. Они устроились поближе к огню, рядышком, близко-близко как если бы на дворе была зима. Старые газеты покрывали пол сплошным ковром. Они сидели, прижавшись друг к другу. Она занимала ровно в два раза больше места, чем он, но ни его, ни ее это, по-видимому, не смущало. Глаза ее сверкали. Он вслух удивился, отчего это.
— Глаза у меня сверкают, когда я знаю, чего хочу, — сказала она.
— Чего же ты хочешь?
Ответ он знал наперед: деньги или секс — важнее в жизни нет ничего.
— Тебя, — ответила она. Его рука скользнула ей на плечо. Он наклонил голову, и кожа на подбородке собралась дряблыми складками. Стариковским, неподвижным взглядом он посмотрел ей в глаза. Он прекрасно знал определенный тип женщин — сколько их перебывало у него в свое время в его сараюшке возле теннисных кортов. Добропорядочные женщины предместья, опрятно одетые, чистенькие, которые в поисках чего-то запредельного, непотребного и поэтому наполовину мистического, семеня изящными ножками на каблучках, наведывались в его логово. Быстротечная, запретная любовь кидает друг к другу мужчин и женщин, барахтающихся и лавирующих в ручейках времени. И это нормально. Но на сей раз случай был нетипичный: ее привели к нему иные побуждения. А вот какие — непонятно.
Из родинок на подбородке у нее росли волосы. Что ж, у него волосы торчали из ноздрей. Груди ее были словно две взбитые подушки. Он опустил на них свою старую голову. Она улыбалась. Его не одолевали пустые волнения: получится, не получится. Эрекция пусть заботит молодых, а он вполне управится руками, если дойдет до дела. Но когда дошло до дела, он дрожал и плакал — желанный гость, который по собственной вине топчется у запертой двери, мерзнет на холоде, когда там, внутри, так тепло и уютно.
— Я не могу, — сказал он. — Что-то не так. Почему ты пришла ко мне? Зачем?
— Это первый шаг, — сказала она. — Я преступила первое правило.
— Что за правило? — Правила — это он понимал. Это то, что было написано на щите у входа на стадион. Правда, Карвер их не читал. Когда-то он умел читать, но теперь разучился.
— Закон дискриминации. — Смех у нее был низкий, грудной. Ему понравилось, как она смеется, и на этот раз у него уже получилось лучше.
Карверу вдруг привиделось: он, Карвер, пролетел сквозь толщу беспокойных облаков и оказался в открытом космосе. И тут он увидел Руфь — она стояла в неизвестной вселенной, совершенно нагая, от ее тела исходил мягкий золотистый свет, а вокруг, словно кружась в медленном танце, вращались неизвестные, новые звезды. Он опустил голову, зарываясь в ее сокровенное, в ее плоть, от которой пахло не естественными соками, но самим живым естеством… Силы покинули его. Он был рожден для старого мира не для нового.
Несчастный старик, он трясся от любви и желания; глаза его закатились, сверкнув белками; электрические разряды пронзили мозг, парализуя его, как бывало всегда, с самого начала болезни. Видения изнуряют старческую плоть. Он стоял на коленях. Потом рухнул на пол.
Руфь в изумлении смотрела на распростертое тело. У Карвера случился припадок падучей, и ей было жаль его, но помочь ему она не могла.
Руфь была довольна собой. Она и этот корчащийся в припадке гражданин пожилого возраста совместными усилиями создали некий фундамент, на котором должен был отныне держаться остов ее новой жизни, как мебельная обивка держится на каркасе. На каркасе из страдания и радости, унижения и торжества, возвышения и падения — что судьба ни пошлет; такая конструкция выдержит любые нагрузки, пройдет любое испытание на прочность. Правда, кое-где еще остались слабые места — один неверный шаг, и сорвешься вниз. Так что все время нужно быть начеку.
Пена изо рта и конвульсии прекратились. Карвер лежал в теплой луже собственных испражнений и мирно спал. Руфь вытряхнула из открытой пачки на столе сигареты, положила их к себе в карман и вышла, и пошла прочь по направлению к главной улице, чтобы купить арахисового масла, несколько удлинителей и заказать на утро такси, — крупнотелая, некрасивая женщина в расхожих уличных туфлях без каблуков, с хозяйственной сумкой, женщина, которая, по-видимому, должна быть благодарна за то, что имеет.
11
Так-так! С кем же Мэри Фишер успела переспать в своей Высокой Башне? Вполне вероятно, что число счастливчиков невелико. Она дама привередливая. Садовника можно исключить сразу, не то его садоводческие успехи были бы куда внушительнее, да и жалованье тоже.
Возможно, в прошлом, один-другой миллионер или какой-нибудь издатель — кто-то из нужных людей, чтобы помочь ей пробиться к успеху. Их влиятельные, седеющие головы, должно быть, не раз опускались на ее пуховые, пастельных тонов, подушки.
А вот с Гарсиа все не так просто. Думается, он может ей кое на что сгодиться, особенно если ночь черна и одинока, и нужные слова не идут на ум, и перо выпадает из рук. А он уж тут как тут: шмыг к ней в кровать, нырк в нее. Когда я споткнулась о ковер, я поймала молниеносный понимающий взгляд, которым обменялись эти двое — слуга и хозяйка, точно два заговорщика. Сначала она метнула взгляд на Боббо, но сразу после — на Гарсиа. Боббо это бы не понравилось, факт.
Чтоб они все стали импотентами! И Боббо, и Гарсиа, и садовник! Да, и садовник — за то, что он не в состоянии вырастить прямое, сильное дерево, даже такое неприхотливое, как тополь. Каков садовник, таково и дерево. Может, ему и желать ничего не надо — скорее всего, он и без моих пожеланий ничего не может.
Я желаю, чтобы Мэри Фишер покрылась струпьями с головы до ног — посмотрим, как ей это понравится. Хорошо бы запустить в систему центрального отопления вирус, скажем, плодовой гнили, чтобы он проник во все уголки ее дома — и, когда она уляжется, переплетясь ногами с Боббо, на длинном, белом как снег, диване, весь воздух будет уже отравлен коварной, незримой заразой. Чтоб ей распухнуть от гноя, чтоб ей гнить заживо! У меня в жизни было только двое мужчин — Боббо и Карвер. С Карвером мне было лучше. Боббо отнимал у меня силу. У Карвера силу отняла я.
Мне страшно. Мне теперь нигде нет места — ни среди уважаемых обществом, ни среди осуждаемых им. Сейчас такое время, что даже шлюхи обязаны быть красивыми. Мой удел как женщины — старый сбрендивший эпилептик. И я с открытыми глазами принимаю это, а коли так, я сразу лишаю себя своего насиженного места, своего стула у стены бального зала, где вместе со мной сидят вдоль стеночки еще миллионы — миллионы! — таких же, как я: сидят испокон века, с завистью и восхищением провожая глазами кружащиеся пары, никогда не танцуя, никогда не претендуя на внимание к себе, предпочитая не рисковать, дабы не испытывать унижение, но втайне всегда на что-то надеясь.
В один прекрасный день, говорит нам внутренний голос, мимо вдруг проскачет рыцарь в сверкающих доспехах, взглянет пронзительно и сразу оценит красоту наших душ, и тогда он посадит свою избранницу к себе в седло и водрузит ей на голову корону, и будет она королевой.
Но в моей душе нет красоты, и мне нигде нет места, и значит, я должна сама себе его обеспечить; и раз я не в состоянии изменить мир, я изменю себя.
Я ощущаю прилив новых сил. Ток самопознания и трезвой рассудочности растекается по моим жилам — холодная, медлительная кровь дьяволицы.
12
В субботу утром Руфь приготовила настоящий завтрак для Энди и Николы. Она разбила на сковородку все яйца, которых им должно было хватить до четверга (по четвергам в местный магазин завозили свежие яйца), и выложила весь без остатка бекон. На дне морозилки нашлось несколько кусков нарезанного белого хлеба (после отъезда Боббо уровень продуктов в морозилке опускался все ниже и ниже), и она сунула их в тостер. Она выставила на стол масло вместо маргарина и велела детям доесть весь мед — целых полгоршка. Они смотрели на нее с опаской — и ели.
У самой Руфи начисто пропал аппетит. Она только выпила черного кофе, сваренного из зерен, которые ей удалось соскрести с бугристого льда на дне морозилки.
Она скормила Гарнесу целый фунт масла, но не стала ходить за ним по всему дому, чтобы вовремя заметить, где его вырвет. Ей почему-то казалось, что он напакостит под двухспальной кроватью, на которой она так часто лежала в одиночестве. Дверь в спальню — небывалый случай — была оставлена открытой: прежде, опасаясь Гарнеса и Мерси, она этого никогда не допускала. Она дала Мерси две нетронутые банки сардин, вполне пригодных и для людей.
А вот Ричарду, морской свинке, она не дала ничего. Он прогрыз столько дыр в шерстяных свитерах, причем впереди, на самом видном месте, что она не могла заставить себя позаботиться и о нем тоже. С какой стати ублажать Ричарда? Ее-то никто не ублажает.
После завтрака Руфь не стала убирать грязную посуду и велела детям хорошенько обыскать весь дом на предмет денег. Они кинулись отгибать края ковров, заглянули в щель между плитой и холодильником, перетряхнули коробки с игрушками (до самого дна, покрытого шлепками спекшейся грязи), и детские книжки на полках, и образцы собственного творчества, грудами сваленные на столах, сервантах и в шкафах и, конечно, не забыли про складки диванов и кресел. В результате этих поисков им удалось собрать монет на общую сумму 6 долларов 23 цента.
— А теперь, — скомандовала Руфь, — шагайте в «Макдональдс» и покупайте себе, что вашей душе угодно — «Биг-Мак», «Супер-Мак», рыбное филе, яблочный пирог, молочные коктейли — пейте, ешьте сколько влезет, но при одном условии: домой вы вернетесь ровно в одиннадцать. Ровно! Ни минутой раньше, ни минутой позже.

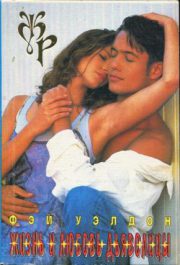
"Жизнь и любовь дьяволицы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Жизнь и любовь дьяволицы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Жизнь и любовь дьяволицы" друзьям в соцсетях.