– Подумай только, – сказала она, заходясь от хохота. – Флориан укусил Талину. Забрался к ней под юбку и цапнул за ногу. Умничек ты мой! – обратилась она к Флориану. Флориан воинственно зарычал.
Талина была угрюмой дородной экономкой, которая бороздила коридоры усадьбы с величавостью парусного фрегата, издавая нестройное звяканье огромной связкой ключей, спрятанной у нее на поясе.
Губы Марии плотно сжались, обычно ласковые глаза стали суровыми.
– Я рада, что тебя это забавляет.
– В этом доме забавляет малейшее происшествие, – жизнерадостно ответила тетушка Дарья. – Что поделаешь, когда мой брат ревет, словно медведь в берлоге, а ты день-деньской лежишь в спальне с компрессами... Нет уж, позволь мне продолжить, Мария. Ты должна больше времени проводить на воздухе или...
Она замолчала, как бы испугавшись, что зашла слишком далеко.
– Ну продолжай же, Дарья, – сказала Мария подчеркнуто любезным голосом. – Я нахожу это очень интересным.
– Тогда слушай, – выпалила ее золовка, – Тебе нужно куда-нибудь уехать, чтобы переменить обстановку.
Поезжай в Варшаву, посмотри там на новые платья, повидай старых друзей, пока они не забыли о твоем существовании. И возьми с собой Казю. Посмотри на нее. Молодая девушка, а сидит здесь, спрятанная ото всех, будто дикая роза в зарослях ежевики. Голос тетушки Дарьи повысился:
– Сейчас для нее самое время повидать свет и кого-нибудь, кроме здешних деревенских увальней. В Варшаве за ней начнут ухаживать молодые люди – образованные, галантные, знатные.
Глаза тетушки Дарьи наполнились слезами, скатывающимися по малиновым щекам; ее массивное тело вздрагивало.
– Неужели ей суждено сгнить здесь, в глуши, и стать старухой, думающей только о еде и собаках?
Она разрыдалась шумно, как ребенок.
– Не надо, тетя Дарья. Пожалуйста, не надо, – утешала тетушку подскочившая к ней Казя.
– Ты хорошая, добрая девочка, – всхлипывала ее тетя. – Небеса вознаградят тебя.
Она позволила Казе увести себя в комнату, раздеть и уложить в постель.
– Отдохните немножко, и вам станет лучше. Тетушка почти тут же уснула, громко похрапывая.
– Бедная тетя Дарья, – сказала Казя, вернувшись в гостиную к матери. Она терпеть не может видеть кого-либо несчастным. – Она так волнуется по любому поводу.
– Но она права, Казя. Зачастую она производит впечатление просто помешанной старухи, но Бог знает, как трудно кинуть в нее камень, если знать, какую жизнь она прожила. Долгие годы в монастыре, который она люто ненавидела, а теперь здесь среди своих отвратительных животных.
Марию передернуло при мысли о том, что Казе, может быть, суждена та же участь. Она подумала с внезапной ослепляющей ясностью: «Я была эгоисткой, я думала только о своих болезнях и хворях. Но у этого ребенка есть своя жизнь, она заслуживает счастья». Ее решение созрело, она повернулась к Казе.
– В конце лета мы поедем в Варшаву или, может быть, ко двору, в Дрезден. Дарья права, пришло время тебе повидать мир.
Со слабой улыбкой она посмотрела на Казину вылинявшую юбку, на домотканую вышитую блузку и стоптанные сапожки.
– Вместо дочки у меня украинская крестьянка, – пожаловалась она шутливо. – Надо купить тебе новую одежду.
– Но зачем?! Мне очень нравится эта. Я не выношу модных неуклюжих платьев, они похожи на перевернутые тюльпаны, и в них невозможно протиснуться в дверь.
– Так надо, доченька. Вскоре ты выйдешь в свет и встретишь красивых молодых людей.
«Людей с прочным положением в жизни, – думала про себя мать, – благородных по рождению, которым настала пора думать о женитьбе».
– Конечно, тебе нужно сделать новую прическу, – Мария, слегка нахмурившись, внимательно оглядела дочь. – Я думаю, на датский манер. В Варшаве полным-полно модных парикмахеров.
– Наша поездка как раз увенчает завершение твоего образования, – продолжала она обсуждать планы будущего своей дочери. – Патер Загорский уезжает отсюда в июле, не так ли?
– В конце августа.
– Ну и прекрасно, значит, выедем в конце августа.
Теперь, когда решение было принято, Мария Раденская говорила с заметным воодушевлением, на ее бледных щеках появился румянец, в глазах зажегся огонь, подтачивающая ее болезнь, кажется, насовсем отступила.
– Мы подождем, чтобы спала жара, будем путешествовать потихоньку, гостить у наших многочисленных кузин. Отец в начале сентября должен ехать в Варшаву на выборы в сейм, чудесное совпадение. Хотя, боюсь, нам не удастся затащить его в Дрезден, ты знаешь, как он ненавидит саксонцев. Наверное, он бы предпочел, чтобы ты поехала прямо в Пулавы. У Кази вытянулось лицо.
– Я не хочу быть фрейлиной у кузины Констанции, – сказала она.
Это было давнее соперничество двух семей. В Пулавах родственники ее матери, Чарторыйские, содержали свой собственный двор по дарованному им в незапамятные времена праву. Она хорошо помнила огромный дворец, кишевший небогатыми шляхтичами с преданными по-собачьи глазами и носящими на боку непременный палаш или саблю – потому что «среди нас, польских вельмож, все равны». Еще она помнила надменных пулавских дам, в подобострастной свите которых состояли такие, как она, отпрыски младших и боковых веток могучего клана Чарторыйских. Лучше уж уйти в монастырь, как тетя Бетка, чем быть титулованной слугой в Пулавах.
– Когда мы вернемся из Варшавы, будет время об этом подумать.
В глубине своего сердца Мария нисколько не сомневалась, что ее дочь вернется домой уже замужней женщиной. Она смотрела на волнующие изгибы ее тела, шелковистый поток волос, полные пунцовые губы, глубокую синеву глаз. Мария печально подумала, что они не смогут собрать своей дочери приличного приданого. Но разве ее красота, ее чистое девичье сердце не говорят сами за себя?
– Я всегда сумею переубедить твоего отца.
Мария почувствовала, как рука дочери благодарно сжала ее колено.
– Я хочу жить моей собственной жизнью, Марыся, а Пулавы – это тюрьма для бедных родственников. Я не смогу жить на милостыню, пусть даже роскошную. Ты ведь знаешь, правда?
– Ты моя дочь, – сказала Мария с нежной улыбкой.
– Я хочу быть свободной.
«Свободной, как любимые тобой птицы. Другой свободы ты просто не знаешь», – подумала ее мать, а вслух сказала:
– Скоро тебе исполнится семнадцать, Казя. Пора подумать и о замужестве. По соседству с нами нет ни одного мало-мальски подходящего человека, только мелкопоместные дворяне да неотесанные казаки, о которых мы и говорить не будем.
– Но ведь есть Баринские, – сказала Казя, неуверенно улыбнувшись.
Мария вздрогнула.
– Не дай Бог, отец услышит твои слова, – она говорила очень серьезно. – Он никогда не простит тебя.
– Он и вправду так зол на них?
– Да, Казя, очень.
Грядущие заботы внезапно заставили Марию почувствовать себя утомленной. У нее заболела голова, и она закрыла глаза.
– Не задернешь ли ты шторы, милая. Солнце ужасно печет.
«Бедная мама, ей приходится прятаться от солнца», – думала Казя, наблюдая, как за окном ребятишки кидают в пруд голыши. За прудом высились уже покрытые зелеными листьями дубы, они тянулись до самой вершины горного кряжа, который отделял Волочиск от запретных владений Баринских. Казе казалось слишком постыдным выезжать на поиски мужа, быть представленной ко двору, словно племенная кобыла, на которую ищут покупателей. Она хотела, чтобы ее будущий муж прискакал к ней на вороном коне, одетый, как...
– Пожалуй, я пойду в спальню.
Голос Марии развеял ее мечты, и Казя, задернув шторы, отвернулась от окна. Она проводила мать в спальню, тепло поцеловала ее на прощание и побежала вниз по широкой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Выбежав на широкий, залитый солнечным светом двор, она с наслаждением глубоко втянула в себя свежий весенний воздух. Предстоящая верховая прогулка на Кинге затмила собой все остальное.
Приветствуя Казю радостным ржанием и прядя ушами, из тени тополей галопом выбежала белая лошадь. Ее шкура сверкала, словно стекло, темная грива развевалась, как облако дыма, хвост был гордо изогнут, маленькие, словно выточенные из слоновой кости, копыта глухо стучали по влажной земле.
– Тихо, Кинга, тихо. Что случилось сегодня? Почему беспокоишься?
Казя разломила ломоть хлеба на несколько кусочков и поднесла их к губам лошади. Лошадь не замерла на месте, положив, как обычно, на плечо Кази свою голову. Она продолжала возбужденно перебирать ногами и мотать головой, оглядываясь вокруг горящими тревогой глазами.
– Что с ней такое, спрашиваешь? – как эхо откликнулся Мишка, облокотившийся неподалеку на плетень. – Всякая тварь весну чует. Жеребец ей нужен, вот оно что. Свести ее с Сарацином, и она мигом станет как шелковая.
Он смотрел, как девушка умело взнуздывает лошадь и затягивает седло – дамским седлом Казя никогда не пользовалась.
«Настоящий казак», – думал Мишка, щурясь от яркого солнца. Он помог ей как следует затянуть подпруги, нежно поглаживая кобылу ладонью. Вряд ли какая-нибудь женщина удостаивалась столь же нежного обхождения в те времена, когда Мишка был молод.
– Гони ее галопом, – сказал он. – Это выбьет из нее дурь. «И из тебя тоже», – подумал он про себя.
– Куды ты поскачешь? Смотри, возвращайся до темноты.
После происшествия с волками Мишка всегда требовал от нее подробного маршрута прогулок. Кроме того, Казе было запрещено отъезжать от дома дальше чем на одну версту. Впрочем, она имела свое собственное мнение на этот счет.
– Если ты пропадешь в один из этих деньков, твой отец снимет с меня голову.
Мишка волновался не зря: на Украине то там, то здесь вспыхивали восстания и бунты, а граница с Турцией проходила всего лишь в шестидесяти верстах к югу от Волочиска.
– Я только съезжу на речку. Хочу увидеть рысь. Павел говорит, у нее появились детеныши.
Она посмотрела на него с задорной улыбкой.
– Не загони лошадь, – предупредил он. – Не то я задам тебе хорошую трепку. Будь я проклят, если не задам.
– Я буду обращаться с ней бережней, чем с младенцем, – засмеялась Казя. – Это ведь по-казацки, верно?
Он с проклятием шлепнул кобылу по холке.
– Убирайтесь скорее и оставьте старика в покое.
Достигнув деревьев, она пятками пришпорила Кингу, и та быстрым галопом понеслась меж высоких дубов по направлению к горному кряжу. Из-под копыт Кинги летели сверкающие брызги грязи. То и дело Казе приходилось приникать к ее натянутой, как струна, шее, чтобы не задеть головой свисающих веток. Лошадь охотно и чутко откликалась на каждое девичье движение, словно стремясь бешеным бегом утолить свои собственные желания. Слившись с животным в одно целое, Казя безраздельно упивалась ощущением силы и скорости. Ветер густым потоком развевал ее волосы, она громко смеялась, казалось, что в ее жилах течет не кровь, а крепкое искрящееся вино.
Тропа стала круче, и Казя немного придержала лошадь, но Кинга, натягивая удила, все еще порывалась мчаться прежним галопом. На росчисти, покрытой клубами дыма от сжигаемых бревен, Казя остановила недовольно храпящее животное. Два угольщика – седой старик в рваном тулупе и смуглый юнец, похожий на когда-то пророчившую им цыганку, – бросили рубить бревна и, обрадовавшись передышке, оперлись на длинные ручки топоров.
– Славный день, – сказала она, переводя дух после долгой скачки.
– Таких бы побольше, пани. Зимы мы навиделись.
Его бородатое лицо сияло от пота. Они оба сняли свои грубые шапки. Старик сделал было попытку повалиться ничком на землю, как это было принято у крепостных холопов, но она с нервной улыбкой остановила его.
– Пожалуйста, не надо.
Они стояли, теребя в грязных мозолистых руках кроличьи треухи.
– Вы видели рысь с детенышами?
– Как же, она живет у реки, – он указал костлявым пальцем по направлению к видневшемуся за деревьями кряжу. – Вон там будет молодая березка, а рядышком яма. Звезда там упала, люди так говорят. Оттуда и река, как на ладони, и рысь будет видна, ежели она пить придет.
Юнец угрюмо молчал, не сводя с нее глаз.
– Держитесь от нее подальше, пани, – продолжал бородач. – С рысью шутки плохи.
– Спасибо, – сказала Казя. Она улыбнулась юноше, бессознательно пытаясь завоевать его симпатию, но он только отвел глаза, не желая встречаться с ней взглядом.
– Пани... – начал старик и замялся, изучая блестящее лезвие своего топора.
–Да?
– В наших краях, сказывают, турки балуют. Жгут басурманы направо и налево, и грабят, и в полон берут. Сказывают...
– Вы всегда сможете надежно укрыться за стенами Волочиска.
– Да благословит вас Бог за вашу доброту, пани.
– Поблагодари пани, язык у тебя, что ли, отсох, – напустился он шепотом на своего напарника. Тот промычал что-то неразборчивое, ковыряя носком башмака землю.
– Турок бояться нечего, – сказала Казя. – Давно их у нас не было, вот они и осмелели. Сюда скоро пришлют драгун, так турок и след простынет.

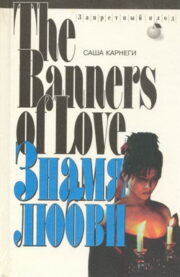
"Знамя любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Знамя любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Знамя любви" друзьям в соцсетях.