— Да нет, боже упаси! — перебил друга Фальери и, резко обернувшись, подошел к Бодоери со словами — Нет, нет, ничего подобного я не чувствую!
— Ну, в таком случае, — продолжал Бодоери, — спеши же и в старости насладиться всеми прелестями земного счастья, которое отпущено тебе. Я выбрал тебе прекраснейшую из женщин, пусть станет она догарессой — и все женщины Венеции назовут ее первой по красоте и добродетельности, подобно тому, как мужчины видят в тебе первого среди первых по храбрости, уму и силе!
Бодоери принялся, не жалея красок, расписывать достоинства и прелести невесты и вскоре преуспел настолько, что глаза старого Фальери заблестели, кровь бросилась в лицо, щеки запылали, от удовольствия он даже причмокивал губами, как после изрядной порции сиракузского вина.
— Ну так раскрой же тайну! — сказал он, усмехаясь. — О ком ты мне толкуешь? Кто эта чаровница?
— К чему скрывать? — отвечал Бодоери. — Речь идет о моей очаровательной племяннице.
— Что?! — вскричал Фальери. — Твоя племянница? Та самая, которая была замужем за Бертуччо Неноло, когда я еще был подестой Тревизо?
— Да что ты — ты говоришь, наверное, о моей племяннице Франческе, — ответил Бодоери, — а я-то прочу тебе в жены ее дочку. Ты ведь помнишь, ее отец Неноло, известный своим неукротимым нравом, не вернулся с войны, найдя свой покой на дне морском. Франческа, вне себя от безутешной скорби и отчаяния, удалилась в монастырь, — вот почему я взял на воспитание маленькую Аннунциату, и все это время она жила в глубоком уединении в Тревизо, в моем доме.
— Что ты такое говоришь, — вновь прервал старика Фальери, исполненный нетерпения, — ты предлагаешь мне взять в супруги дочь твоей племянницы? Сколько же лет минуло со времени женитьбы Неноло? Девочке, наверное, никак не более десяти лет. Когда я был подестой Тревизо, Неноло еще и не помышлял о женитьбе, а это было…
— Двадцать пять лет назад! — со смехом подсказал Бодоери. — Да-a, неужто, дружище, время для тебя летит столь быстро, коли ты способен так ошибаться? Аннунциате сейчас девятнадцать лет; она прекрасна, как солнце, скромна и смиренна, не искушена в любви, ведь мужчин она почти не видела. Она будет предана тебе со всей силою детской любви и безоглядной доверчивостью.
— Хочу ее видеть, сейчас же и немедленно! — воскликнул дож, вновь живо вспомнив образ прекрасной Аннунциаты, описанный Бодоери.
Желание его было исполнено в тот же день, — не успел он после заседания Большого Совета возвратиться в свои покои, как хитрый Бодоери, который, казалось, преследовал особые цели, добиваясь возвышения племянницы, тайно привел к нему прелестную Аннунциату. И стоило лишь старому Фальери взглянуть на ангельское дитя, как он уже был в самое сердце поражен ее дивной красотой и тут же, путаясь в словах, срывающимся голосом предложил ей руку и сердце. Аннунциата, которой Бодоери заранее постарался внушить, как должно себя вести, вспыхнула и послушно склонилась перед царственным старцем. Она схватила его руку, прижала к губам и едва слышно пролепетала:
— О господин мой, неужели вы хотите удостоить меня великой чести взойти вместе с вами на высокий трон? Если так, то я буду почитать вас всей душой и буду служить вам верой и правдой до самого последнего вздоха.
Старый Фальери пришел в неописуемый восторг и восхищение. Как только Аннунциата дотронулась до его руки, трепет пробежал по его членам, голова у него закружилась, и все тело пронизала такая дрожь, что он принужден был поспешно опуститься в большое кресло. Казалось, Бодоери ошибся, говоря о полноте сил у восьмидесятилетнего старца. И, видя это, он не мог скрыть лукавой улыбки. Что касается чистой, неопытной Аннунциаты, то она ничего не заметила; а больше в комнате, по счастью, никого не было.
Вполне возможно, старик Фальери, представив себе, как он покажется народу женихом девятнадцатилетней девушки, почувствовал всю нелепость своего положения; он смутно понимал, что, пожалуй, и не стоит давать повод к насмешкам городским зубоскалам и было бы куда лучше вовсе обойти молчанием этот щекотливый момент, — короче говоря, с согласия Бодоери решено было, что венчание свершится в величайшей тайне, и тогда через несколько дней Фальери сможет представить свою супругу синьории и народу так, как будто они уже давно женаты, и она только что прибыла из Тревизо, где находилась все время, пока Фальери исполнял свою миссию в Авиньоне.
Обратим же свой взор на того опрятно одетого, замечательной красоты юношу, который, держа в руках кошелек с цехинами, расхаживает взад и вперед по Риальто, беседует с евреями, турками, армянами, греками, затем, нахмурившись, отворачивается, идет себе дальше, останавливается, поворачивает назад и, наконец, садится в гондолу и направляется к площади Сан-Марко и там, заложив руки за спину и опустив глаза в землю, смятенно и неуверенно вновь шагает взад и вперед, не замечая ничего и не догадываясь, что уже давно привлекает внимание: вот чье-то лицо мелькнуло в окне, вот легкий шепоток донесся ему вслед, там кто-то тихо кашлянул с богато убранного балкона, — но он-то и не подозревает, что все эти знаки любви обращены к нему. И кто бы мог подумать, что этот юноша — тот самый Антонио, который всего несколько дней назад, нищий, оборванный, несчастный, лежал на мраморных плитах перед Доганой!
— Сыночек, сыночек Антонио, золотко мое, здравствуй! — завидев его, крикнула старая нищенка, сидевшая на ступенях церкви Святого Марка, мимо которой он прошел было, не заметив.
Едва Антонио, быстро обернувшись, увидел старуху, — он тут же схватился за кошелек и вынул целую горсть цехинов, намереваясь бросить ей.
— Да что ты в самом деле, убери свои деньги и не показывай! — захихикала и захохотала старуха. — Что я буду делать с этим золотом, я и без того богатая! Но если ты и впрямь хочешь сделать для меня доброе дело, справь мне новый плащ с капюшоном, ведь старый никуда не годен, такой уже не наденешь, когда с неба льет. Исполни мою просьбу, золотко мое, — но держись подальше от Фонтего, подальше от Фонтего!
Антонио пристально посмотрел в изжелта-бледное, изрезанное глубокими морщинами лицо старухи, внезапно исказившееся в жуткой гримасе, а когда она вдобавок ко всему, вытянув исхудалые костлявые руки, звонко хлопнула в ладоши и лающим голосом, с отвратительным хихиканьем, вновь затараторила: «Держись подальше от Фонтего!»— Антонио не выдержал:
— Что ты несешь, безумная старуха? Оставь свои дурацкие выходки, ведьма проклятая!
Едва Антонио выговорил последние слова, — старуха рухнула как подкошенная и покатилась вниз по мраморным ступеням. Антонио бросился к старухе и подхватил ее в самый последний момент, спасая от неминуемого падения.
— Сыночек ты мой, — заговорила она тихим, жалостливым голосом, — сыночек, какое ужасное слово ты произнес! О, лучше убей меня, но никогда не говори больше так. — Ах, ты и не знаешь, как больно обидел меня, — а ведь я всегда была предана тебе всей душой, — о, если б ты только знал!
Старуха внезапно умолкла, закуталась в темную, видавшую виды шаль, которая наподобие плаща свисала у нее с плеч, вздохнула и застонала, словно изнемогая от невыносимой боли. Странное чувство шевельнулось в душе Антонио, и, снова подхватив женщину на руки, он понес ее вверх по лестнице к порталу церкви Святого Марка; там, в укромном уголке, он приметил мраморную скамью и усадил на нее старуху.
— Ты сделала мне много доброго, — заговорил он, снимая у нее с головы безобразный платок, — ты помогла мне, ведь коли уж на то пошло, только благодаря тебе я остался жив и сделался богатым, и если бы ты не поддержала меня в минуту тяжких невзгод, — лежать бы мне на дне морском, и не суждено было бы мне спасти старого дожа, и не получил бы я в награду столько денег. Но даже если бы ты не сделала этого, я все равно чувствую, что какие-то неведомые узы соединяют нас и вся моя жизнь непостижимым образом связана с тобой. Хотя не скрою — все эти твои сумасбродные выходки, твое отвратительное хихиканье и хохот нередко пробуждают в моем сердце ужас. Нет, правда, когда я еще бедствовал, был грузчиком, был гребцом, что-то всегда заставляло меня напрягать последние силы — только для того, чтобы заработать несколько лишних кватрино для тебя.
— О сыночек мой ненаглядный, золотой мой Тонино! — вскричала старуха, протянув к нему высохшие руки, и ее палка со стуком упала на мраморные плиты и откатилась далеко в сторону. — О мой Тонино, не говори мне ничего, я знаю, знаю, что, как бы ты ни хотел это скрыть, — ты будешь привязан ко мне всей душою, ведь ты же… Но молчу, молчу, молчу.
И старуха с трудом нагнулась было за своей палкой, но Антонио опередил ее. Опершись на палку заостренным подбородком и устремив застывший взгляд в землю, старуха заговорила теперь уже спокойным глуховатым голосом:
— Скажи мне, дитя мое! Неужто ты совсем ничего не помнишь о прежних временах — как ты жил, что тогда с тобой происходило, до того, как ты превратился в несчастного бедняка, который едва сводит концы с концами?
Антонио тяжело вздохнул, уселся рядом со старухой и начал свой рассказ:
— Ах, матушка, лишь одно я знаю наверняка — что я из состоятельного и процветающего рода, — но кто мои родители, как они выглядели, как случилось, что я лишился их, — об этом я не имею ни малейшего представления, да и вряд ли что-то могло сохраниться в моей душе. Я очень хорошо помню высокого, красивого мужчину, который часто брал меня на руки, ласкал и приносил мне леденцы. Ясно помню я и приветливую, милую женщину, которая утром одевала меня, а вечером укладывала в мягкую постельку и окружала меня постоянной заботой. Они говорили со мной на каком-то чужом благозвучном языке, да я и сам следом за ними начинал уже лепетать первые слова. Когда я еще был гребцом, мои товарищи, которые невзлюбили меня, частенько говорили, что стоит только посмотреть на мое лицо, волосы, глаза — сразу скажешь, что во мне есть немецкая кровь. Я тоже так считаю, ведь те люди, что воспитывали меня (а я уверен, высокий красивый мужчина был моим отцом), говорили по-немецки. Самое яркое воспоминание той поры, которое по сей день стоит у меня перед глазами, — это кошмарная ночь, когда меня разбудили жуткие отчаянные крики. В доме был слышен страшный топот, то и дело хлопали двери; меня охватил неописуемый ужас, и я принялся громко плакать. И тут в комнату вбежала женщина, о которой я рассказывал, подняла меня с постели, и не успел я опомниться, как она уже завязала мне платком рот, закутала в какие-то тряпки и, подхватив меня на руки, помчалась прочь. Что было дальше, я не помню, память моя молчит. И вот я, сам не знаю как, очутился в некоем роскошном доме, который располагался в очаровательной местности. Передо мной встает образ человека, которого я называю отцом, он видится мне статным господином добродушного нрава и благородной внешности. И он, и все домашние говорили по-итальянски. На протяжении нескольких недель я не видел отца, и вот однажды пришли какие-то чужие люди, которые мне показались с виду очень страшными; они ужасно шумели и перевернули в доме все вверх дном. Заметив меня, они спросили, кто я такой и что здесь делаю.
— Да ведь я Антонио, сын хозяина этого дома!
Услышав мой ответ, они засмеялись мне в лицо, сорвали с меня всю мою хорошую одежду и вытолкали из дома с угрозами, что если я еще хоть раз посмею, чего доброго, показаться им на глаза, то они взгреют меня так, что отобьют всякую к тому охоту. Обливаясь слезами, я бросился прочь. Шагах в ста от дома я наткнулся на пожилого человека, в котором признал слугу моего приемного отца.
— Пойдем, Антонио, — воскликнул он, беря меня за руку, — пойдем, бедный малыш. Для нас обоих двери этого дома навсегда закрыты. Теперь давай вместе думать, как раздобыть кусок хлеба.
Так я вместе со стариком очутился здесь. Старик оказался вовсе не так беден, как можно было предположить, глядя на его плохонькую одежду. Мы едва прибыли, а я уже видел, как он доставал цехины из-за распоротой подкладки своей куртки и, день-деньской промышляя на Риальто, то помогал улаживать какое-нибудь торговое дельце, а то и сам торговал чем придется. Меня он везде таскал за собой и, уговорившись о цене, обыкновенно просил дать еще немного для своего figliuolo[17]. Меня это нисколько не смущало, и не было случая, чтобы кто-нибудь, взглянув на меня, не вынул еще несколько кватрино, которые мой опекун старательно припрятывал, после чего, гладя меня по голове, рассыпался в заверениях, что, дескать, все пойдет мне на новую курточку. Мне нравилось у старика, которого люди, не знаю уж почему, прозвали папаша Сизый Нос. Но продолжалось это недолго. Ты помнишь, старуха, то ужасное время, когда однажды задрожала земля, когда, потрясенные до самых своих основ, покачнулись башни и дворцы, когда, будто колеблемые рукою невидимого великана, зазвонили колокола. Лет семь, не больше, прошло с тех пор.

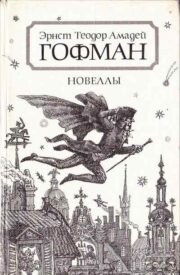
"Дож и догаресса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дож и догаресса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дож и догаресса" друзьям в соцсетях.