– Руки мыть будем? – спросил Мишель.
– Да, но только в кухне. Туалетная комната убрана, там всё чисто, и тебе запрещается туда входить. Я даже оттёрла никелированные краны.
Он посмеялся над её маниакальной страстью к чистоте и спросил:
– Ты думаешь, Марии понравится, если мы умоемся над «её» раковиной?
Она лениво обратила к нему тёмноволосую головку, прекрасные серые глаза, которые льющийся из окна свет делал зелёными.
– Нет. Но Мария знает: иногда нужно скрывать недовольство. Куда ты несёшь цветы?
Он осторожно нёс кувшинчик из толстого стекла с пышным букетом дикого ятрышника.
– На стол, куда же ещё. Как это было чудесно – пурпурный отблеск у тебя в глазах и на щеках… Вот тут… Но надо бы добавить ещё и другую штуку, того же цвета, – ты знаешь, на что я намекаю…
– Какую штуку? Осторожно, Мишель, не расплескай воду… Идём же!
– За всю жизнь я ни разу не опрокинул вазу с цветами! Там, на твоём секретере, было что-то вроде бювара… Его здесь уже нет. Ты его убрала? А что ты с ним делала? Писала?
– Нет, я рисовала костюмы – так, ничего особенного…
– Какие костюмы?
Она взглянула на него словно издалека, с извиняющейся полуулыбкой:
– Ну ты же знаешь… это у меня навязчивая идея. Всё время думаю: если в будущем сезоне мы поставим «Даффодиль», мои костюмы обойдутся не дороже, а может, и дешевле, чем переделка старых костюмов из «Могадора», и я не хвастаюсь…
Она подняла узкую руку с сомкнутыми пальцами и покачала головой, закончив этим фразу.
– Покажи! – отрывисто приказал Мишель, поставив кувшинчик на секретер. – Где рисунки? В лиловом бюваре?
Алиса нетерпеливо прищёлкнула пальцами.
– Оставь! Что это за выдумки? Нет у меня никакого лилового бювара! Пойдём обедать, Мишель!
Он взглянул на жену с обидой.
– Вы только посмотрите! Нет никакого лилового бювара! Что за манера всегда говорить со мной точно с ребёнком!
Подняв руку, он показал на щёку Алисы, туда, где увидел погасший теперь отблеск.
– Тут… и вот тут… – произнёс он вполголоса. – Такой цвет, его бы перенести на картину… Тебя словно освещала рампа, в которой две трети красных лампочек и треть – синих… Красный… пурпурно-лиловый… великолепно…
Она пожала плечами, лицо выражало полнейшее недоумение:
– Я иду обедать. Мишель. Пирог остынет.
– Постой!
Не столько это слово, сколько звук его голоса заставил её остановиться, Мишель как-то странно вскрикнул – на двух высоких нотах. Она знала, отчего у него так меняется тембр голоса. Обернувшись, она увидела посеревшее лицо Мишеля, услышала его учащённое дыхание. Она помедлила, позволила себе роскошь подумать: «Он похож на Мато в миниатюре…» А затем с достоинством вошла в неведомое.
– На что ты злишься, Мишель?
Он тряхнул курчавой головой, словно желая отбросить всё, что она собиралась сказать.
– Не усложняй. Тут что-то было… Ну же, Алиса… Ты говоришь, что нет никакого бювара, никакой лиловой штуки… Но я же не сошёл с ума, повтори ещё раз… Нет никакого бювара?
Она печально взглянула на изменившееся лицо мужа, на тёмные круги, мгновенно обозначившиеся у него под глазами. Быстро обшарила взглядом стены, потолок между массивными балками, ища какой-нибудь блуждающий отблеск, пурпурную искорку в зеркале, луч, преломившийся в гранёном стекле и отражённый другим стеклом. Но ничего не нашла и снова перевела взгляд на Мишеля.
– Нет, – грустно сказала она.
Она наблюдала за ним с такой тревогой, что он попался на эту удочку. Резко выдохнув, он упал в кресло, в котором до того сидела Алиса:
– Господи, как же я устал… Что со мной было? Что происходит?
Он поднял голову, по-детски потянулся к ней, и она чуть не поддалась желанию обнять его, всплакнуть, вздрогнуть при мысли о миновавшей опасности. Однако позволила себе не больше того, что требовала осторожность. Сложив губы в мягкую удивлённую улыбку, заставила глаза широко открыться и выдержать умоляющий взгляд Мишеля:
– Как ты меня напугал, Мишель! – жалобно сказала она.
Он созерцал её с тревожной и суровой нежностью, которую многие легкомысленные мужчины втайне испытывают к своей верной подруге, и уже облегчённо вздыхал, видя её прежней, такой неизменной: её розовый рот с широкой, часто в трещинках нижней губой и короткой верхней, чуть вздёрнутой к носу – чуть плоскому, чуть приплюснутому носику, некрасивому и неподражаемому камбоджийскому носу, – а главное, глаза, удлинённые, словно листья, где зелёное переливалось в серое, казавшиеся светлее вечером, при лампе, и темневшие утром…
Она не двигалась, не отводила взгляда. Но Мишель увидел, что под густой челкой одна из бровей Алисы едва заметно подёргивалась, как от лёгкой нервной судороги. И в то же время его ноздри ощутили запах, выдававший волнение, запах испарины, которая выступает на теле от страха и тоски, запах, который словно зло передразнивал аромат сандала, разогретого солнцем самшита, – аромат, принадлежавший часам любви и долгим дням в разгаре лета. Он высвободился из кольца милосердных рук, повернулся и открыл ящик секретера.
Луч солнца заиграл на бюваре из лакированного сафьяна, и первым побуждением Мишеля было воскликнуть с ребяческим торжеством:
– Видишь? Ну что я говорил?
Он улыбался, повторяя: «Видишь? Видишь?», и потому Алиса решила улыбнуться тоже. Мысли покинули её, она старалась только оставаться неподвижной. «Если я не двинусь с места, он тоже не двинется…» Но едва она улыбнулась, как Мишель переменился в лице, и она поняла: его улыбка была ничего не значащей случайностью. Она ухватилась за соломинку:
– Звонили к обеду.
Он машинально повернулся к стеклянной двери в сад, чуть нагнув голову, словно желая рассмотреть маленький чёрный колокол, полускрытый гирляндами майской розы и жёлтыми гроздьями жасмина, и Алиса понадеялась, что он спохватится и встанет, боясь опоздать к обеду и рассердить эту хитрую бестию Марию, что отложит на потом то, что ему предстояло узнать, то, что ему предстояло сказать, сделать… «Потом, – подумала она, – я всё улажу. Или нам обоим не жить».
Она направилась было к двери, но Мишель сдавил ей запястье:
– Постой! Дело не кончено.
Она пошла на хитрость, громко застонала, заставила себя заплакать:
– Ты мне делаешь больно! Пусти!..
Она встряхнула запястье, рука Мишеля сразу же разжалась, и она поняла, что грубости ожидать не приходится – Мишель сохранял какое-то неестественное хладнокровие; так потерпевший кораблекрушение, уже захлёбываясь солёной водой, говорит себе: «Как жаль, я надевал эти запонки всего два раза!» Она видела перед собой озабоченное, настороженное лицо, потому что он ведь и в самом деле был всего лишь насторожён и озабочен, в нём ещё теплилась надежда, как и в ней самой; он боролся за неё, а не против неё. На мгновение он стал «умником», как говаривала она: голова чуть склонена набок, карие глаза озадаченно улыбаются. Она чувствовала, как постарела за эти несколько секунд. «Я не смогу уберечь его от того, чего он боится», – подумала она и, пав духом, возненавидела его. Ослабев, она перенесла всю тяжесть тела на одну ногу, отдавая себе отчёт в том, что этим движением как бы признаёт себя побеждённой.
И всё же он ещё не открыл лиловый бювар, и Алиса успела прочесть в его взгляде малодушное желание, совпадавшее с её собственным: закрыть ящик секретера, помчаться вдогонку за мгновением, которое убегало всё дальше, оставляя их замершими, покинутыми, неподвижными, тем мгновением, когда Мишель заговорил о пурпурном отблеске на щеке Алисы. «Сейчас я крикну ему: "Сыграем!" Схвачу бювар, побегу, он за мной, и…»
Мишель, чья голова была совсем рядом с разгорячённой грудью Алисы, боязливо спросил:
– Что там, внутри?
Она вяло повела плечами, склонилась к нему, словно желая сказать «прощай».
– Ничего. Уже ничего.
Он яростно набросился на два последних слова: – Ты, значит, успела всё переложить в другое место? Она выпрямилась, с силой втянула воздух, раздув камбоджийские ноздри, облизнула потрескавшуюся нижнюю губу, и лицо её помолодело. Теперь, наконец, нужно было спорить, защищаться, делать осторожные признания, ранить самолюбие Мишеля, чтобы отвлечь его, чтобы он не слишком мучился… «Надо исправить свою ошибку… И как это меня угораздило сказать, что у меня нет лилового бювара? Бедный, бедный Мишель…»
Она сдержала слёзы, придававшие её глазам необычный блеск, к щекам прилила кровь. Она стыдливо прижала локти к туловищу из-за влажных пятен, которые, расплываясь у неё под мышками, темнили её голубое платье.
– Послушай, Мишель… Сейчас ты поймёшь…
Он недобро усмехнулся и протестующе поднял руку:
– Ну уж нет! Честное слово… Нет! Это было бы странно…
Она часто замечала у него эту мнимую непринуждённость, этот вымученный смех, когда ему казалось, что он потерпел полное поражение в делах.
– Мишель, ты поступишь правильно, если не захочешь открывать этот бювар: там больше ничего нет – ни для тебя, ни для меня. Если ты его откроешь, сумей понять, что то… та бумага, которую ты там найдёшь, ничего не значит, уже ничего не значит. Это всё равно что зола от чего-то такого, что отгорело навсегда… В общем, это ничто, слышишь, ничто…
Он удивлённо слушал её, высоко подняв брови, с недоверчивым видом теребя двумя пальцами бородку. Всё же он расслышал главное:
– Отгорело, говоришь? Ну-ну! Ладно…
Он схватил лакированный сафьяновый бювар, который сверкнул под солнцем, словно зеркало. Пурпурное пятно прыгнуло на потолок, заметалось между потемневшими балками. Мишель открыл бювар – оттуда вылетел маленький, лёгкий листочек бумаги и плавно опустился вниз и вбок, на паркет между ножками секретера. Алиса тронула Мишеля за рукав:
– Может быть оставишь его там, где он лежит? Я бы его выбросила, сожгла и… Мишель, подумай о нас с тобой…
Он живо нагнулся и, выпрямляясь, метнул на неё разъярённый взгляд. Он был зол на неё: зачем она, выказав чрезмерное волнение, вынудила его поднять этот тонкий, жёсткий и хрустящий, словно новенькая банкнота, листок, который он теперь машинально ощупывал: «Это foreign paper,[1] на такой бумаге обычно пишут письма по десять-пятнадцать страниц…»
Однако на листке было всего несколько строчек, написанных очень мелким почерком.
– Да ведь это почерк Амброджо!
Алиса уловила, сколько надежды прозвучало в этом наивном возгласе, и поняла: настаёт самая тяжёлая минута. Она опустилась на диван – не как обычно, поджав под себя длинные ноги, а села прямо, готовая вскочить и убежать. Мудрость и предусмотрительность собственного тела ужаснули её; она прикинула расстояние между диваном и туго отворявшейся дверью, между диваном и окном, и потеряла всякое терпение. «Как! Он ещё не прочёл? Чего он ждёт? Не весь же день это будет длиться?..»
– Амброджо… – повторил Мишель. – Когда написано это письмо?
– В ноябре тридцать второго года, – кратко ответила она.
– В ноябре тридцать второго? Но я же тогда был в Сан-Рафаэле?..
Она пожала плечами, с досадой глядя, как он, вытаращив глаза, принялся искать свои очки в круглой оправе.
– На конторке! – бросила она всё так же сухо.
– Что?..
– Очки на конторке, вот что!..
Её раздражение росло, и вновь появилось желание осуждать, пререкаться: «Боже, до чего у него глупый вид! Как будто не знает, что не сможет разобрать почерк Амброджо без очков! Неужели мне придётся самой прочесть ему вслух?»
Неловко, словно стесняясь наготы, он медленно заправил тонкие дужки очков за уши. Она понимала: он унижен и готов приличия ради взорваться, а потому сочла за благо промолчать. Впрочем, стоило ему бросить взгляд на письмо, которое Алиса мысленно читала вместе с ним, как он мгновенно переменился.
«Алиса, не дерзаю даже поблагодарить вас за такой вечер, за такую ночь. Я едва ли осмеливаюсь вспоминать о даре, который получил от вас, и вымаливать ещё. Слишком это прекрасно, слишком сладостно… Я сжимаю вас всю в моих объятиях».
Ожидая, пока Мишель поднимет глаза от письма, она размышляла с расстановкой, отрешённо: «Как долго он читает, не торопится. А тот болван ещё взял да и написал моё имя в первом же письме. Такое пошлое письмо… Остальные, правда, были лучше. Надо было сочинить для Мишеля какую-нибудь историю. Это было проще простого. Простого проще. Вплоть до минуты, когда я разорвала бы письмо, и везения бы не потребовалось. Это – мне урок. Торжественно клянусь: если всё обойдётся, лягу в постель и просплю до самого утра…»
Дочитав до конца, он снял очки и взглянул на жену. В первую минуту ей стало неизмеримо легче от того, что он вновь стал красивым и избавился от чувства неловкости.
– Ну?.. – резко сказал Мишель.
– Ну?.. – обиженно повторила она.
– Что ж… я жду объяснений…
Она не сразу дала превратить разговор в допрос. Решила схитрить, вызвала у себя приступ гнева. Раздула широкие ноздри азиатского носика, сдвинула брови, и густая чёлка свесилась до самых ресниц.

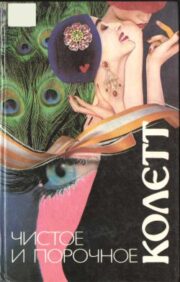
"Дуэт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дуэт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дуэт" друзьям в соцсетях.