– Один из двоих, чёрт побери!
– Да, это был Арман. Кто бы мог подумать! С виду такой бирюк!
Я соглашаюсь, что, дескать, никто не мог, хотя на самом деле я ожидала чего-нибудь подобного от этого долговязого меланхолика с серьёзным угрюмым взглядом – мне кажется, Ришелье отнюдь не такое ничтожество, не то что балагур-марселец. Куриные мозги Эме всецело заняты теперь этим незначительным происшествием, и мне становится немного печально. Я спрашиваю:
– Как? Вам полюбился этот мрачный ворон?
– Да нет же, он меня просто забавляет.
Какая разница! Урок заканчивается без новых излияний чувств. Лишь прощаясь в тёмном коридоре, я изо всей силы целую белую нежную шею, короткие благоухающие волосы. Эме очень приятно целовать, она походит на тёплого красивого зверька и так ласково целует в ответ. Ах, будь моя воля, я бы вообще с ней не расставалась!
Завтра воскресенье, мы не учимся, скукота! Весело мне бывает только в школе.
В воскресенье днём я отправилась на ферму к Клер, моей милой нежной сводной сестре, которая уже год не ходит в школу. Мы спускаемся по матиньонской дороге, которая выходит к шоссе, ведущему на вокзал. Летом на этой дороге темно от густой листвы, но сейчас, в зимние месяцы, листьев на деревьях, разумеется, нет; всё же здесь можно укрыться и наблюдать за людьми, сидящими внизу на скамейках. Снег хрустит у нас под ногами. Затянутые льдом лужицы мелодично тренькают на солнце – этот приятный звук, звук трескающегося льда, не похож ни на какой другой. Клер шёпотом рассказывает мне, как она флиртовала с неотёсанными грубыми парнями на воскресном балу у Труяров. Я слушаю, затаив дыхание.
– Знаешь. Клодина, Монтассюи тоже там был, он танцевал со мной польку и так прижимал к себе! А Эжен, мой брат, танцевал с Адель Трикото, потом вдруг отошёл в сторону, подпрыгнул и врезался головой в висевшую лампу – стекло разбилось, лампа погасла. Пока все глазели да ахали, толстяк Феред вывернул и вторую лампу, такая темень сразу, горела только свечка на небольшом столе с закусками. Пока мамаша Труяр ходила за спичками, кругом только и слышались крики, смех, чмоканье. Мой брат рядом со мной обнимал Адель Трикото, та вздыхала, вздыхала и говорила «Пусти, Эжен!» таким придушенным голосом, словно у неё юбка на голову задралась. Толстяк Феред со своей «дамой» упали на пол и так хохотали, что не могли встать.
– А вы с Монтассюи?
Клер покраснела: в ней заговорила запоздалая стыдливость.
– Мы… В первый момент он так удивился, когда погас свет, что замер, держа меня за руку. Потом взял меня за талию и тихо сказал: «Не бойтесь». Я промолчала и тут чувствую: он наклоняется и осторожно ощупью целует меня в щёки. Было темно, и он по ошибке (ах, маленький Тартюф!) поцеловал меня в губы. Мне было так приятно, так хорошо, я ужасно разволновалась, прямо ноги подкосились. Он обнял меня ещё крепче, чтобы поддержать. Он такой милый, я его люблю.
– Ну, ветреница, а что было потом?
– Потом мамаша Труяр, брюзжа, снова зажгла лампы и пообещала, что, если подобное повторится, она пожалуется и бал прикроют.
– Всё-таки это было немного грубовато… Молчи! Кто там идёт?
Метрах в двух под нами была дорога, а на обочине возле оврага – скамья, мы же сидели совсем рядом, за колючей изгородью – идеальное место для незаметного подслушивания.
– Учителя!
И в самом деле, к нам шли, беседуя, Рабастан и его угрюмый приятель Арман Дюплесси. Неслыханная удача! Видно, этот самовлюблённый тип Антонен хочет посидеть на скамейке – солнце, хотя и бледное, но немножко греет. Затаившись на площадке у них над головами, мы радостно предвкушаем их беседу.
– Здесь подеплее, вам не кажется? – удовлетворённо вздыхает южанин.
Арман бормочет в ответ что-то невразумительное. Марселец снова раскрывает рот – уверена, он и слова не даст приятелю вставить!
– Знаете, мне тут нравится. Эти дамы, учительницы, очень с нами любезны, впрочем, мадемуазель Сержан – уродина. Зато мадемуазель Эме – такая славненькая! Когда она смотрит на меня, у меня словно крылья вырастают.
Новоявленный Ришелье выпрямляется и подхватывает:
– Да, такая очаровательная, такая милая, всегда улыбается и трещит без умолку, как малиновка.
Но он тут же берёт себя в руки и добавляет уже другим тоном:
– Да, девушка хорошенькая, вы наверняка вскружите ей голову, вы ведь у нас Дон Жуан!
Я чуть не расхохоталась. Ничего себе Дон Жуан! Толстощёкий, круглоголовый и в фетровой шляпе с пером… Замерев, навострив уши, мы смеёмся одними глазами.
– Но право же, – продолжает сердцеед-преподаватель, – тут есть и другие красивые девушки, вы их словно не замечаете. В прошлый раз в классе мадемуазель Клодина пела очень мило, я в этом немного разбираюсь. Её нельзя не заметить. До чего хороши её пышные вьющиеся волосы, её озорные карие глаза! Знаешь, дружище, сдаётся мне, эта девочка недурно разбирается в том, что ей ещё рано знать.
Я вздрагиваю от удивления, и мы чуть не выдаём себя, потому что Клер вдруг фыркает так громко, что внизу могут услышать. Рабастан, заёрзав на скамейке, с игривым смешком шепчет что-то на ухо задумавшемуся Дюплесси. Тот улыбается. Они встают и уходят. Мы же наверху, очень довольные, скачем, как козы, от радости, что удалось подслушать кое-что интересное, а заодно, чтобы согреться.
По возвращении я уже обдумываю, какими уловками разжечь этого сверхвозбудимого толстяка Антонена, чтобы было чем заняться на перемене, когда идёт дождь. А я-то полагала, что он задумал обольстить мадемуазель Лантене! Я очень рада, что ошиблась, ведь малышка Эме, судя по всему, такая влюбчивая, что дело может выгореть даже у Рабастана. Правда, я и не подозревала, что Ришелье так в неё втюрился.
В школу я прихожу к семи утра – сегодня моя очередь разжигать огонь, вот чёрт! Придётся колоть в сарае щепки для растопки, портить себе руки, таская поленья, раздувать пламя и терпеть дым, щиплющий глаза. Надо же, как вырос первый новый корпус, а на симметричном ему здании для мальчишек почти закончена крыша: бедная, наполовину разрушенная старая школа кажется жалкой лачугой рядом с этими двумя строениями, так быстро поднявшимися над землёй. Ко мне присоединяется Анаис, и мы вместе идём колоть дрова.
– Знаешь, Клодина, сегодня приедет вторая младшая учительница, и, кроме того, нам всем придётся перебираться на новое место. Заниматься будем в детском саду.
– Ничего себе! Ещё подцепим блох или вшей, там такая грязища!
– Зато, старушка, мы будем ближе к мальчишкам. (Ну и бесстыжая эта Анаис! Впрочем, она верно говорит.)
– Да, ты права. Что-то проклятый огонь совсем не желает разгораться. Я уже минут десять надрываюсь. Наверняка Рабастан зажигается гораздо быстрее.
Постепенно огонь вспыхивает. Появляются ученицы, но мадемуазель Сержан запаздывает. (С чего бы это? Раньше такого не бывало.) Наконец она с озабоченным видом спускается, отвечает нам «здрасьте», усаживается за стол и говорит: «Давайте по местам», не глядя на нас и явно думая о своём. Я переписываю задачи, а сама ломаю голову, что это её так терзает, однако тут с удивлением и тревогой замечаю, что время от времени она бросает на меня быстрые ехидные взгляды, в которых сквозит довольство. С чего бы это? На душе у меня неспокойно, ой неспокойно. Надо подумать. В голову, однако, ничего не приходит, вот разве когда мы шли на урок английского – мадемуазель Лантене и я, – она смотрела на нас с почти болезненной, едва прикрытой злобой. Так-так-так, значит, в покое нас с Эме не оставят? А ведь мы не делаем ничего плохого! Наше последнее занятие по английскому было такое славное! Мы даже не открывали ни словарь, ни сборник обиходных фраз, ни тетрадь…
Я размышляю и злюсь, переписывая на скорую руку задачи; Анаис украдкой посматривает на меня и догадывается: что-то случилось. Поднимая ручку, которую я как раз вовремя нечаянно уронила на пол, я ещё раз бросаю взгляд на ужасную рыжую мадемуазель Сержан с ревнивыми глазами. Да ведь она плакала, точно плакала. Но что означает это злорадное выражение лица? Ничего не понимаю, надо непременно спросить сегодня у Эме. Я больше не думаю о задаче:
…Рабочий ставит забор из кольев. Он вбивает колья на таком расстоянии друг от друга, чтобы ведро с дёгтем, которым он обмазывает их нижние концы до высоты тридцати сантиметров, опорожнялось за три часа. Каково число кольев и какова площадь участка, имеющего форму квадрата, если известно, что на каждый кол идёт по десять кубических сантиметров дёгтя, что радиус ведра цилиндрической формы в основании равен 0,15 м, а его высота – 0,75 м, что ведро наполняется на три четверти и что рабочий смачивает сорок кольев в час, отдыхая за это время примерно восемь минут? Ответьте также, сколько кольев надо взять, чтобы вбивать их в землю на расстоянии, на десять сантиметров большем? Определите, в какую сумму обходится подобная операция, если колья стоят три франка за сотню, а рабочий получает полфранка в час.
Почему бы не спросить, счастлив ли рабочий в личной жизни? Что за нездоровое воображение, в каком извращённом уме рождаются эти возмутительные задачи, которыми нас изводят? Терпеть их не могу! Равно как и рабочих, общими усилиями окончательно всё запутывающих: они делятся на две группы, одна из которых тратит на треть сил больше другой, в то время как другая трудится на два часа больше! Или взять количество иголок, которые швея расходует за двадцать пять лет, работая в течение одиннадцати лет иголками по цене 0,5 франка за упаковку, а в остальное время – по цене 0,75 франка за упаковку, причём иголки по 0,75 франка отличаются… И так далее и тому подобное. А поезда, у которых – чёрт их возьми! – то и дело меняется скорость, время отправления и состояние здоровья кочегаров! Несуразные посылки, неправдоподобные предположения, которые на всю жизнь отвратили меня от арифметики.
– Анаис, к доске!
Наша дылда поднимается и украдкой обращает на меня взгляд встревоженной кошки. Никому не охота «идти к доске» под грозным выжидательным оком мадемуазель Сержан.
– Решайте задачу.
Анаис «решает». Пользуясь случаем, я повнимательнее приглядываюсь к мадемуазель Сержан: глаза у неё сверкают, рыжие волосы пылают… Только бы успеть до занятий увидеться с Эме Лантене. Но вот задача решена. Анаис вздыхает и возвращается на своё место.
– Клодина, к доске! Напишите дроби: три тысячи пятьсот двадцать пять пять тысяч семьсот двенадцатых, восемьсот шесть девятьсот двадцать пятых, четырнадцать пятьдесят шестых, триста две тысяча пятьдесят вторых (люди добрые, оградите меня от дробей, делящихся на 7 и 11, а также на 5 и 9, на 4 и 6 и ещё на 1127) и найдите наибольший общий делитель.
Этого я и боялась. Я с тоской приступаю к Дробям и тут же делаю массу ошибок, потому что голова у меня забита другим. Допущенные ляпсусы с ходу отметаются резким движением руки или хмурым покачиванием головы. Наконец, расправившись с дробями, я иду на место, и мне вдогонку несётся: «Всё в облаках витаем?», потому что на замечание «Вы забыли сократить нули» я ответила:
– Нули всегда сокращают, и поделом. Следующей к доске направляется Мари Белом и по своему обыкновению с самым убедительным видом несёт откровенный вздор – говорливая, уверенная в себе, когда сбивается, она теряется и краснеет, когда вспоминает заданный урок.
Дверь класса открывается, входит мадемуазель Лантене. Я жадно слежу за ней: ах, бедные золотистые глаза опухли от слёз, милые глаза, они испуганно метнулись ко мне, но Эме тут же отвернулась. Я потрясена: люди добрые, что она могла ей сделать? Я багровею от гнева, Анаис, заметив это, украдкой ухмыляется. Эме просит у мадемуазель Сержан книгу, та даёт её с подчёркнутой готовностью и заливается румянцем. Что всё это значит? От мысли, что урок английского состоится только завтра, тревога моя ещё больше усиливается. Но я ничего не могу поделать. Мадемуазель Лантене уходит к себе в класс.
– Собирайте книги и тетради, – объявляет рыжая злодейка, – нам придётся найти временное убежище в детском саду.
Тут все принимаются суетиться, как на вокзале, толкаются, щиплют друг друга, двигают скамьями; книги валятся на пол, и мы складываем их в свои большие передники. Дылда Анаис с вещами в руках, дождавшись, когда я подниму свою ношу, ловко дёргает за край моего фартука, и его содержимое грохается наземь.
Анаис с отсутствующим видом глядит на троих каменщиков, перебрасывающих во дворе черепицу. Мне попадает за неуклюжесть, а через две минуты эта язва устраивает ту же шутку с Мари Белом, которая так громко вскрикивает, что в наказание ей задают переписать несколько страниц древней истории. Наконец наша орава с гамом и топотом пересекает двор и входит в детский сад. Я морщу нос: кругом ужасная грязь, лишь пол наспех подметён, и пахнет неухоженными младенцами. Только бы это «временно» не затянулось слишком надолго!
Положив книги, Анаис тут же удостоверяется, что окна выходят в директорский садик. Мне некогда глазеть на младших учителей – я слишком обеспокоена, предчувствуя неприятности.

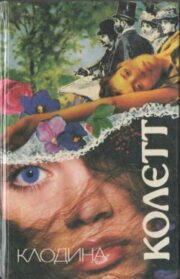
"Клодина в школе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в школе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в школе" друзьям в соцсетях.