Сидони-Габриель Колетт
Конец Ангела
Ангел закрыл за собой калитку палисадника и вдохнул ночной воздух: «Хорошо!..» Но тут же спохватился: «Ничего хорошего». Густые тяжёлые кроны каштанов держали в плену дневной зной. Вокруг соседнего газового рожка дрожал свод рыжеватой листвы. Задыхаясь под низким пологом зелени, улица Анри Мартена до самого рассвета ждала, когда со стороны Булонского леса повеет едва ощутимой прохладой.
Ангел, без шляпы, стоял и смотрел на свой пустой ярко освещённый дом. До него донёсся звон опрокинутого хрусталя, а за ним – звонкий голос Эдме, прозвучавший резко и недовольно. Он увидел, как жена подошла к широкому окну холла на втором этаже и склонилась над подоконником. Её жемчужно-белое платье утратило белизну, окрасившись зеленоватым отсветом фонаря, потом вспыхнуло жёлтым огнём от вышитой золотом занавески.
– Это ты там, Фред?
– Я, кто же ещё?
– Ты не пошёл провожать Филипеско?
– Нет, он ушёл, не дождавшись меня.
– Мне кажется, было бы лучше… Ладно, не важно. Ты идёшь спать?
– Не сейчас. Очень душно. Я пройдусь.
– Но… Впрочем, как хочешь.
Она на мгновение умолкла и, видимо, засмеялась – он увидел, как вздрагивает в окне иней её платья.
– Знаешь, мне видны только твоё лицо и белая манишка, они как будто висят в воздухе… Ты похож на афишу дансинга. Роковой мужчина.
– Как ты любишь выражения моей матери! – произнёс он задумчиво. – Можешь отпустить прислугу, у меня есть ключ.
Она помахала ему рукой, и окна одно за другим погасли. Матовый голубоватый свет оповестил его о том, что Эдме направилась через свой будуар в спальню, выходившую в сад, на противоположную сторону особняка.
«Ах да, – вспомнил он. – Будуаров больше нет. Теперь это именуется "рабочим кабинетом"».
На башне Жансон-де-Сайли пробило двенадцать, и Ангел, запрокинув голову, ловил звон колокола, словно капли дождя.
«Полночь. Она так торопится лечь… Ах да, ей же завтра в девять надо быть в госпитале!»
Он раздражённо зашагал прочь, потом пожал плечами и успокоился.
«В сущности, это всё равно что жениться на балерине. В девять часов – класс, это святое. Хоть трава не расти».
Он дошёл до Булонского леса. На небе, бледном от стоящей в воздухе пыли, едва мерцали затуманенные звёзды. Мерный звук шагов, вторивших его собственным, заставил его остановиться – он не любил, когда за ним кто-нибудь шёл.
– Добрый вечер, господин Пелу, – приветствовал его охранник из «Вижилант», взяв под козырёк.
Ангел небрежно поднял палец к виску, отвечая на приветствие со снисходительностью старшего, которую перенял во время войны от своих сослуживцев-сержантов, и двинулся дальше, оставив позади полицейского, тяжело опиравшегося на решётчатую калитку палисадника.
У самого входа в лес, со скамейки, где расположилась влюблённая парочка, доносились приглушённые голоса и шорох одежды; Ангел на мгновение прислушался: вокруг сомкнутых тел и невидимых губ раздавалось тихое журчание, похожее на плеск лодки в спокойной воде.
«Мужчина – военный, – подумал он. – Я слышал, как звякнула пряжка ремня».
Все его чувства, не обременённые мыслью, были обострены. Чуткий, как у дикаря, слух доставлял ему на войне, во время редких тихих ночей, утончённые удовольствия и никому не ведомые страхи. Его солдатские пальцы, чёрные от земли и грязи, безошибочно распознавали на ощупь изображения на медалях и монетах, стебли и листья растений, названия которых он никогда не слыхал. «Эй, Пелу, глянь-ка, что это такое?» Ангел вспомнил рыжего парня, который впотьмах совал ему в руки то дохлого крота, то змейку, то лягушку-древесницу, гнилое яблоко или ещё какую-нибудь дрянь и кричал: «Ну-ка, пусть попробует отгадать!» Он улыбнулся без сожаления своему воспоминанию и рыжему мертвецу. Он часто вспоминал этого Пьеркена, своего боевого товарища, лежащего на спине с недоверчивым выражением лица и спящего вечным сном, часто о нём говорил. Вот и сегодня вечером Эдме опять ловко подвела разговор к этой короткой истории, давно выученной им наизусть, которую он рассказывал с наигранной застенчивостью и которая кончалась так: «Пьеркен мне говорит: "Старик, я видал во сне кошку, и ещё речку возле нашего дома, она была вся грязная, загаженная… Это не к добру…" Тут его и накрыло, обыкновенной шрапнелью. Я хотел его оттащить… Нас потом нашли метрах в ста от того места, он лежал на мне. Я потому про него рассказываю, что он был хороший парень… Это, в общем, за него я получил вот это».
Вслед за стыдливой паузой он опускал глаза на красно-зеленую орденскую ленту и стряхивал пепел, словно желая скрыть смущение. Кому какое дело, считал он, до того, что было на самом деле, когда случайный взрыв швырнул двух солдат друг на друга – мёртвого Пьеркена на плечи живому Ангелу? Потому что в правде порой больше кривды, чем во лжи, и незачем никому знать, как неподъёмное тело внезапно отяжелевшего Пьеркена придавило разозлённого, сопротивлявшегося Ангела… Он до сих пор не мог простить этого Пьеркену. К тому же он вообще презирал правду с того далёкого дня, когда она вырвалась у него, как икота, чтобы осквернить, чтобы причинить боль…
Впрочем, сегодня вечером, у них дома, двое американских майоров, Аткинс и Марш-Мейер, и лейтенант Вуд явно не слушали его. Их спортивные лица, застывшие, словно в ожидании первого причастия, и устремлённый в одну точку взгляд пустых светлых глаз выражали почти болезненное нетерпение в предвкушении дансинга. Что же до Филипеско… «Не спускать глаз!» – таков был лаконичный вывод Ангела.
Влажный аромат, исходивший не столько от загустелой воды, сколько от подстриженной растительности берегов, окутывал озеро. Ангел стоял, прислонясь к дереву, и какая-то едва различимая женская тень дерзко надвинулась на него. «Привет, малыш…» Он вздрогнул от последнего слова, произнесённого низким голосом, срывающимся, словно его сожгла жажда, сухая душная ночь, пыльная дорога… Ангел не ответил, и незримая женщина беззвучно шагнула к нему. Он ощутил запах грубой шерстяной ткани, нестиранного белья, влажных волос и лёгким быстрым шагом направился к дому.
Матовый голубой свет всё ещё горел: Эдме по-прежнему сидела в будуаре-кабинете. Она наверняка что-нибудь писала, подписывала заказы на бинты и лекарства, просматривала дневные сводки, краткие отчёты секретарши… Она склонила над бумагами копну вьющихся волос с рыжеватым отливом и свой красивый лобик, серьёзный, как у учительницы. Ангел достал из кармана маленький плоский ключ на золотой цепочке.
«Пора. Меня опять ждёт любовь по расписанию…»
Он вошёл без стука, в своей обычной манере. Однако Эдме даже не вздрогнула и не прервала телефонного разговора.
– Нет, завтра – нет… – услышал Ангел. – Но я же вам не нужна для этого! Генерал прекрасно всё знает. А в Министерстве торговли у нас есть… Как, у меня есть Лемери? Да что вы! Он очарователен, но… Алло! Алло!..
Она засмеялась, показав маленькие зубки:
– О, вы преувеличиваете… Лемери любезен со всеми женщинами, если они не кривые и не хромые… Что? Да, он пришёл, только что. Нет-нет, всё строго между нами… До свидания… До завтра…
Белоснежный пеньюар, отливавший жемчужным блеском в тон ожерелью на шее, соскользнул с её плеча. Распущенные каштановые волосы, тонкие и кудрявые, как у негритянки, ставшие от сухости воздуха чуть более жёсткими, чем обычно, колыхались при каждом движении.
– Кто это? – спросил Ангел.
Она повесила трубку и, не ответив на его вопрос, задала другой:
– Фред, ты дашь мне завтра свой «роллс»? Мне нужно будет привезти к нам на обед генерала.
– Что ещё за генерал?
– Генерал Хаар.
– Бош?
Эдме сдвинула брови.
– Слушай, Фред, что за детские шутки? Генерал Хаар завтра приедет осматривать больницу. Когда он вернётся к себе в Америку, он сможет сказать, что мой госпиталь ничуть не хуже американских… Его сопровождает полковник Бейберт. А потом они приедут сюда обедать.
Ангел с размаху швырнул смокинг на комод.
– Мне плевать. Я буду обедать в городе.
– Как?.. Как?..
На лице Эдме промелькнуло ожесточение, но она тут же улыбнулась, аккуратно сложила смокинг и сказала уже совсем другим тоном:
– Ты спрашивал, кому я звонила? Твоей матери.
Развалясь в глубоком кресле, Ангел молчал. Черты его сложились в самую красивую, самую неподвижную из его масок. Спокойное неодобрение отражалось на его челе, на опущенных веках, чуть потемневших к тридцати годам, на губах, которые он постарался сомкнуть мягко, без напряжения, словно во сне.
– Она хочет поговорить с Лемери из Министерства торговли насчёт своих кораблей, гружённых кожами, – продолжала Эдме. – Они стоят у неё в порту, в Вальпараисо, целых три… Неплохая идея, ты не находишь? Только Лемери не даст разрешения на ввоз – во всяком случае, он так говорит. Знаешь, сколько Сумаби предлагают ей в качестве комиссионных, причём по самому минимуму?
Ангел махнул рукой, отметая разом и корабли, и кожи, и комиссионные.
– Баста! – коротко сказал он.
Эдме не настаивала и, нежно глядя на мужа, подошла к нему.
– Ты пообедаешь завтра с нами? Может быть, придёт ещё Жиббс, репортёр из «Эксельсиора», который будет фотографировать госпиталь, и твоя мать.
Ангел спокойно покачал головой.
– Нет, – сказал он. – Генерал Хагенбек…
– Хаар…
– …полковник, да ещё моя мать во френче – ты, кажется, называешь это «жакетом»? – с маленькими кожаными пуговицами… Её перетянутый пояс… Погончики на плечах… Офицерский стоячий воротник, над которым нависает подбородок… и вдобавок тросточка… Нет, знаешь… Моего героизма на это не хватит – я лучше уйду.
Он тихо засмеялся, но как-то невесело. Эдме положила ему на плечо руку, уже слегка дрожавшую от гнева, но попыталась обратить всё в шутку:
– Ты ведь не всерьёз, правда?
– Очень даже всерьёз. Я отправлюсь обедать в «Брекекекс»… Или ещё куда-нибудь.
– С кем?
– С кем захочу.
Он сел и, не нагибаясь, сбросил туфли. Эдме, прислонясь к чёрному лакированному комоду, подбирала слова, которые образумили бы Ангела. Белый атлас колыхался в ритме её учащённого дыхания, она сложила руки за спиной, как мученица. Ангел посмотрел на неё с затаённым уважением.
«Она в самом деле имеет вид женщины высокого пошиба, – подумал он. – Даже так, непричёсанная, неодетая, в купальном халате, она выглядит весьма прилично».
Эдме опустила глаза, встретилась взглядом с мужем, улыбнулась.
– Ты просто дразнить меня, – сказала она жалобно.
– Нет. Я просто не буду завтракать дома.
– Но почему?
Он встал, дошёл до распахнутой двери их тёмной спальни, полной запахов ночного сада, потом вернулся к ней:
– Потому. Если ты вынудишь меня объясняться, я буду говорить грубо. Я буду говорить нехорошо. Ты расплачешься, не заметишь от волнения, как с тебя соскользнёт пеньюар, но… но, увы, мне это будет всё равно.
Прежнее ожесточение проступило в лице молодой женщины. Однако её терпение не было исчерпано. Она засмеялась и пожала круглым голым плечиком, белевшим под распущенными волосами.
– Посмотрим, как тебе это будет всё равно. Он прохаживался по комнате, уже раздетый, в одних белых коротких трусах из шёлкового трикотажа. Ступая, он внимательно следил за упругостью походки, тщательно сгибал стопу и колено и потирал под правым соском два почти уже сгладившихся маленьких шрама, возвращая им прежнюю яркость. Худой, менее вальяжный, чем в двадцать лет, но более стройный и крепкий, он не отказывал себе в удовольствии покрасоваться перед женой, не столько соблазняя её, сколько демонстрируя своё превосходство. Ангел знал, что он красивее, чем она, и оценивал свысока, как знаток, пологие бёдра, не слишком высокую грудь, грацию ускользающих линий, которую Эдме так умело облекала в прямые платья и облегающие туники. «Где же твои стати? Ты случайно не растаяла?» – спрашивал он иногда, желая слегка поддеть её и ощутить, как от раздражения напрягается её тело, в котором таилась скрытая сила.
Последние слова жены ему не понравились. Ему хотелось, чтобы она была изысканной и бессловесной, если не бесчувственной в его объятиях. Он остановился и, нахмурясь, смерил её взглядом.
– Хорошенькие у тебя манеры! – сказал он. – Это ты у своего главного врача научилась? Война, сударыня!
Она снова приподняла голое плечико.
– Бедненький Фред, какой же ты ещё ребёнок! Хорошо, что нас никто не слышит. Отчитываешь меня за шутку… которая, в сущности, не что иное, как комплимент… Вздумал напоминать мне о приличиях… И кто? Ты!.. Ты! После семи лет брака!
– Откуда ты взяла семь лет?
Он сел, словно для долгого разговора, голый, самодовольно раскинув вытянутые ноги.
– Помилуй, тысяча девятьсот тринадцатый… тысяча девятьсот девятнадцатый…

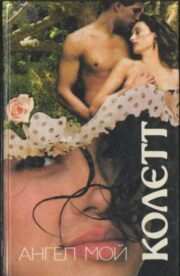
"Конец Ангела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Конец Ангела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Конец Ангела" друзьям в соцсетях.