Баронесса выбила об ухо мраморного сатира свою короткую вересковую трубку.
– Душно будет ночью в Париже.
Ангел кивнул и, подняв голову, посмотрел на пунцовое облако. На его бледные щёки, на подбородок с ямочкой легли розовые отсветы, словно бархатистые пятна красной пудры на лице актёра.
– Да, – согласился он.
– Слушай, хочешь, давай вернёмся завтра утром? Мне ничего не надо, только купить мыло да зубную щётку, и всё… Позвоним твоей жене. Завтра с утра, часика в четыре, по холодку, поедем…
Ангел вскочил, как ужаленный.
– Нет, нет! Не могу.
– Не можешь? Брось…
Он увидел сверху, как смеются маленькие мужские глаза и вздрагивают толстые плечи.
– Я и не знала, что ты так крепко привязан, – проговорила она. – Но раз такое дело…
– Что?
Она встала, тяжёлая, тучная, и хлопнула его по плечу.
– Да, да. Днём ты разгуливаешь, где хочешь, но каждый вечер бежишь домой. Да ты совсем ручной!
Он холодно взглянул на неё. Она уже нравилась ему гораздо меньше.
– От вас ничего не скроешь, баронесса. Я поднажму, и меньше чем через два часа мы будем дома.
Ангел навсегда запомнил эту ночную поездку, запах трав, мрачный пурпур, долго не угасавший на западе, и мохнатых мотыльков в плену автомобильных фар. Подле него, превращённая тьмой в бесформенную чёрную глыбу, бодрствовала баронесса. Он вёл машину осторожно, прохладный свежий воздух, овевавший их при быстрой езде, сменялся духотой, как только они замедляли ход на поворотах. Полагаясь на своё острое зрение и чуткую реакцию, он невольно думал о старой женщине, чужой и грузной, неподвижно сидевшей рядом, и испытывал временами какой-то необъяснимый страх, нервное возбуждение, в результате чего они чуть не врезались в повозку, ехавшую без фонарей. В этот момент большая рука легко коснулась его плеча.
– Осторожно, малыш.
Конечно, он не ожидал ни этого прикосновения, ни ласкового тона. Но одной лишь неожиданностью невозможно было объяснить го волнение, которое они в нём вызвали, и этот комок, этот большой орех, застрявший у него в горле. «Я идиот, идиот», – мысленно твердил он себе. Он поехал медленнее, забавляясь мельканием преломлённых лучей, золотых зигзагов и павлиньих перьев, заплясавших перед его полными слёз глазами.
«Она сказала, что я крепко привязан, что я ручной. Видела бы она нас, Эдме и меня… Сколько уже времени мы спим как брат и сестра?» Он попытался прикинуть: недели три, может, больше?.. «Самое забавное во всём этом, что Эдме не выказывает недовольства и просыпается по утрам с улыбкой». Он всегда употреблял про себя слово «забавный», когда хотел избежать слова «печальный». «Старая супружеская пара, что же вы хотите, старая супружеская пара… Жена и её главврач, муж и… его машина. И всё-таки старая Камилла сказала, что я ручной. Ручной. Ручной. Чтоб я ещё раз взял с собой эту…»
Он взял её с собой, ибо июль буквально сжигал Париж. Но ни Эдме, ни Ангел на жару не жаловались. Ангел возвращался вечером, подчёркнуто вежливый, рассеянный, с шоколадными руками и лицом. Он расхаживал голый между ванной и будуаром Эдме.
– Вы, наверно, сегодня совсем испеклись, бедные панамцы! – посмеивался он.
Чуть бледная и осунувшаяся, Эдме расправляла свою красивую рабскую спину и заявляла, что совсем не устала.
– Да нет, ничего страшного, представь себе! Сегодня было не так душно, как вчера. У меня в кабинете прохладно. И потом, мне об этом даже думать некогда. Мой бедный двадцать второй, который так быстро шёл на поправку…
– Неужели?
– Да, да. Доктору Арно он что-то не нравится.
Она всегда решительно выдвигала имя доктора Арно, как вводят в игру ферзя. Но Ангел не реагировал. Тогда Эдме принималась следить глазами за его обнажённой фигурой, покрытой лёгкими отсветами голубых занавесей. Он ходил перед ней взад и вперёд, увлекая за собой облако аромата, белый, дразнящий и уже недоступный. Спокойная непринуждённость его наготы, великолепной, надменной, задевала Эдме, и она, отчасти из мести, хранила неподвижность. Её призыв к этому обнажённому телу уже не был бы теперь утробным нетерпеливым стоном, это был бы человеческий зов спокойной подруги. Её приковывали покрытые тонким золотым пушком руки, огненный рот под золотистыми усами, и она смотрела на Ангела ревниво, сдержанно, кротко, как человек, влюблённый в девственницу, недоступную ни для кого.
Они говорили про дачные места, про отъезды знакомых, обменивались бездумными банальными фразами.
– Война почти не сказалась на Довиле, – вздыхал Ангел. – Какая там толпа!..
– Теперь людям и поесть негде, – подхватывала Эдме. – Преобразование гостиничного бизнеса – вот грандиозное дело!
Незадолго до праздника Четырнадцатого июля Шарлотта Пелу объявила за завтраком об успехе «операции с одеялами» и громко посетовала на то, что Леа досталась половина прибыли. Ангел удивлённо поднял голову.
– Так ты с ней общаешься?
Шарлотта Пелу устремила на сына влюблённый взгляд в поволоке крепкого портвейна и воскликнула, взывая к невестке:
– Он иногда такое может сказать… Такое сказать… Прямо как контуженный. Нет, правда, как контуженный! Мне просто страшно. Я никогда не переставала с ней общаться, ангел мой. С какой стати?
– С какой стати? – повторила Эдме.
Он смотрел на мать и жену и находил странное удовольствие в их заботливом тоне.
– Просто ты никогда не говорила о ней… – начал он простодушно.
– Я? – тявкнула Шарлотта. – Нет, это надо же! Эдме, вы слышите, что он говорит? В конце концов, можно только восхититься его чувствами к вам. Он так крепко забыл всё, что не связано с вами…
Эдме молча улыбнулась, наклонила голову и поправила двумя пальцами кружева на вырезе платья. Этот жест привлёк внимание Ангела, и он увидел, что сквозь тонкий жёлтый батист проступают, словно две симметричные ранки, кончики её грудей в бледно-розовом ореоле. Он содрогнулся и понял, что это миловидное тело, его самые сокровенные места, его правильное изящество и вся эта женщина, близкая, неверная, независимая, не вызывают в нём ничего, кроме стойкого отвращения. «Ну-ну! Полно!» Но это было всё равно что стегать бесчувственную лошадь. Он вслушался в потоки гнусавых восклицаний Шарлотты:
– Только позавчера я говорила при тебе, что машину иметь, конечно, хорошо, но по мне так лучше такси, да-да, такси, чем допотопный «рено» Леа, а вчера – даже не позавчера, а вчера, – когда речь зашла о Леа, я сказала, что, если уж держать одинокой женщине в услужении мужчину, так имеет смысл взять красивого… А Камилла? Она на днях сетовала при тебе, что послала Леа второй бочонок «Кар-де-Шом», вместо того чтобы оставить его себе… Прими от меня похвалу твоей супружеской верности, ангел мой, но одновременно и упрёк в неблагодарности. Леа не заслужила такого отношения с твоей стороны. Эдме будет первая, кто это скажет!
– Вторая, – уточнила Эдме.
– Я ничего не слышал, – сказал Ангел.
Он поглощал крепкие розоватые июльские вишни и сквозь щель под опущенной шторой стрелял косточками по воробьям в саду, так обильно политом, что от него поднимался пар, как от горячего источника. Эдме сидела неподвижно, и в ушах её звучали последние слова Ангела: «Я ничего не слышал». Он, конечно, не лгал, и всё-таки его развязность, нарочитое мальчишество, когда он, сжимая двумя пальцами вишнёвые косточки и прикрыв один глаз, целился ими в воробьёв, о многом говорили ей. «О чём же он думал, когда ничего не слышал?»
До войны она заподозрила бы, что тут замешана женщина. Месяц назад, сразу после сцены у зеркала, она ожидала мести, какой-нибудь жестокой дикарской выходки, ядовитых слов, брошенных в лицо. Но нет… ничего не произошло… Спокойный, безмятежный, он вёл по-прежнему кочевую жизнь, замкнутый в своей свободе, как узник в застенке, и аскетичный, как зверек, привезённый от антиподов, который даже не ищет себе самку в нашем полушарии.
«Болен?..» Он хорошо спал, ел в своё удовольствие – то есть немного, подозрительно обнюхивая мясные блюда и предпочитая фрукты и яйца. Никакой нервный тик не нарушал гармонии его красивого лица, и пил он больше воды, чем шампанского. «Нет, он не болен. И всё-таки… с ним что-то не так. Что-то, что я наверняка разгадала бы, если бы по-прежнему была в него влюблена. Но…» Она снова поправила кружева на вырезе, вдохнула ароматный жар, поднимавшийся от её груди, и, склонив голову, увидела сквозь ткань платья две одинаковые лиловато-розовые медальки. Она вспыхнула от сладострастного предчувствия и мысленно посулила этот аромат, эти розовые тени рыжеволосому человеку, расторопному и снисходительному, с которым ей предстояло встретиться через час.
«Они каждый день при мне говорили о Леа, и я не слышал. Значит, я её забыл? Значит, забыл. Но что такое забыть? Когда я думаю о Леа, я ясно вижу её, вспоминаю её голос, духи, которыми она душилась, втирая их в кожу длинными мокрыми пальцами…» Он втянул носом воздух, подняв губы к носу с выражением плотоядного удовольствия.
– Фред, ты состроил чудовищную гримасу, точь-в-точь как та лиса, которую Анго поймал в окопах…
Это был наименее трудный момент их дня – время после завтрака. Взбодрённые душем, они с благодарностью слушали шум ливня, который неожиданно хлынул на три месяца раньше своего срока и, притворяясь осенним, срывал листья с деревьев и гнул к земле петуньи. Сегодня они не утруждали себя поисками оправданий для своего упрямого нежелания покинуть город на лето. Накануне Шарлотта Пелу дала этому исчерпывающее объяснение. Она провозгласила: «Просто у нас порода такая, парижская! Чистая, без примесей! Зато мы по-настоящему насладились первым парижским послевоенным летом – мы да консьержи».
– Фред, ты что, влюбился в этот костюм? Ты же его не снимаешь! У него уже несвежий вид.
Ангел поднял руку, как бы прося не шуметь и не отвлекать его внимания, сосредоточенного в эту минуту на сугубо умственной работе.
«Всё-таки интересно, забыл я её или нет? Но что такое забыть? За тот год, что мы с ней не виделись…» Его вдруг словно что-то ударило, он как будто проснулся и понял, что его память напрочь отринула войну. Он подсчитал годы и на миг онемел от изумления.
– Фред, неужели я никогда не добьюсь от тебя, чтобы ты оставлял бритву в ванной, а не приносил её сюда?
Ангел нехотя обернулся. Он был почти голый, и его влажное тело местами серебрилось от налипшего талька.
– Что-что?
В голосе, доносившемся будто издалека, послышался смех.
– Фред, ты похож на пирог, с которого осыпалась пудра! Довольно бледный пирог… В будущем году мы будем умнее. Купим загородный дом…
– Ты хочешь загородный дом?
– Да. Не сию минуту, конечно…
Закалывая волосы, она указала кивком головы на завесу дождя, лившего без ветра, без грома, сплошной серой стеной.
– В будущем году… Почему бы нет?
– Мысль хорошая. Очень хорошая.
Он говорил, чтобы отделаться от неё, вежливо отделаться и сосредоточиться на своём удивлении. «Мне казалось, что мы не виделись всего год. Я упустил из виду войну. Выходит, прошло – один, два, три, четыре, пять – пять лет, как мы не виделись. Один, два, три, четыре… Значит, я всё-таки забыл её? Нет, потому что они при мне говорили о ней, а я ни разу не подскочил и не вскрикнул: "Как же, как же! Леа! Как она там?" Пять лет… А сколько ей было в четырнадцатом?»
Он снова принялся считать и упёрся в немыслимую цифру. «Получается, что ей сейчас около шестидесяти… Какой бред!..»
– Главное, – продолжала Эдме, – это правильно решить, где покупать. Изумительные места в…
– Нормандии, – машинально подхватил Ангел.
– Да, в Нормандии… Ты хорошо знаешь Нормандию?
– Нет… В общем, нет… Там много зелени. Липы… озёра…
Он прикрыл глаза, словно у него закружилась голова.
– А где? В какой части Нормандии?
– Озёра, сливки, клубника и павлины…
– Вот видишь, сколько ты всего знаешь! Райские края! А что ещё там есть?
Казалось, он читает свои ответы, склонясь над круглым зеркалом, перед которым обычно проверял по утрам, чисто ли он выбрит. Он продолжал, безвольно и неуверенно:
– Павлины… Луна на паркете и большой-большой красный ковёр в аллее…
Не договорив, он слегка качнулся и соскользнул на ковёр. Край кровати задержал его падение, и он уронил на смятые простыни бесчувственное лицо, которому бледность в сочетании с загаром придавала зеленоватый оттенок слоновой кости.
Почти в ту же секунду, не вскрикнув, Эдме очутилась рядом с ним на полу, подхватила отяжелевшую голову, поднесла к обескровленному лицу открытый флакон, но слабеющие руки оттолкнули её:
– Оставь меня… Ты же видишь, я умираю.
Однако он не умирал, и рука его, которую держала Эдме, оставалась тёплой. Он пробормотал это едва слышно, с торжественностью и упоением юных самоубийц, которые искали смерти и избежали её.

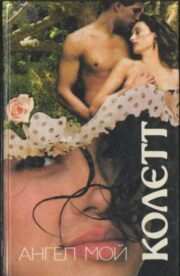
"Конец Ангела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Конец Ангела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Конец Ангела" друзьям в соцсетях.