Мой дядя Роберт, которому впоследствии будет принадлежать бюро по трудоустройству в Лилле, оборудовал на чердаке крольчатник и проводил целые дни, добывая для своего быстро растущего хозяйства траву по всему Латинскому кварталу по обомшелым водостокам и по задним дворикам, мощённым булыжниками. Забивал кроликов он сам, его клиенты получали своё жаркое в виде, подготовленном для огня. Одного кролика в месяц он отдавал матери, остальных продавал на чёрном рынке. Ему суждено было погибнуть сентябрьским утром 1992 года за рулём своего «рено-16», когда на республиканской трассе между Шартром и Ле Маном он закурил сигарету, и его занесло на мокром после дождя дорожном покрытии.
Тринадцатилетний Ив, который впоследствии станет врачом, а ещё позднее повесит свою медицину на гвоздик ради теологии, к огорчению своих родителей добровольно примкнул к бойскаутскому движению Chantiers de la Jeunesse. Он получил чёрную униформу, армейские ботинки и белые гамаши, он учил речи маршала наизусть и неделями маршировал с рюкзаком, в кепи и с туристским ножом по лесам Фонтенбло.
Девятнадцатилетний Мишель, который вошёл в историю Рено как изобретатель запорной крышки бензобака, ждал учебного места в техническом училище и убивал время, целыми днями слоняясь по городу в поисках побега из тюрьмы, которой он считал свою жизнь. К аутизму своего отца он питал невысказанное презрение, к беспринципной борьбе за выживание матери – тоже. Хотя он знал, что и сам не готов умереть за хорошее дело, но быть просто попутчиком он всё-таки не хотел. За несколько месяцев до экзаменов на аттестат зрелости он хотел бросить гимназию, потому что при записи на экзамены все девочки из его класса – действительно все до одной – выбрали в качестве первого иностранного языка не английский, а немецкий. Чтобы избежать этого шага, Леон раз в жизни прибег к своему отцовскому авторитету. Сперва он пытался внушить ему ценность классического образования и указывал на то, что хотя бы мальчики его класса как-никак записались на экзамен по английскому языку; но когда и эти аргументы не сработали, он просто подкупил его пятьюстами франками.
Рождённый на втором году войны Филипп – мой отец – ещё держался за материнский подол. Только по воскресеньям после обеда, когда Ивонна уходила поспать одна в затемнённую спальню и не допускала к себе детей, он шёл с Мюриэль к мадам Россето. Тогда он сидел на коленях у сестры, которая сидела на коленях у консьержки, и слушал её зловещие истории. И за то, что он был такой хороший мальчик и вёл себя так тихо и послушно, ему тоже можно было пригубить яичного ликёра мадам Россето. Он всю жизнь был благоразумный, но непригодный для жизни человек и оставался неверным другом женщин, которого поначалу его собственный шарм загнал в одиночество, а потом алкоголизм – в смерть.
Леон Лё Галль продолжал вести жизнь затворника. Он ходил на работу и выполнял свой долг как отец семейства, а во всём остальном он замкнулся в себе и в тайне своего плавучего дома. К счастью, выяснилось, что Жюль Карон имел пристрастие к русской литературе девятнадцатого века; на полках стояли Толстой и Тургенев, Достоевский и Лермонтов, а также Чехов, Гоголь и Гончаров. Леон читал их все подряд, при этом курил трубку и пил красное вино, которое его, впрочем, не опьяняло, а скорее приводило в приятное состояние метафизического уюта.
Он читал не торопясь и смотрел в окно на игру бликов на поверхности воды, на окраску платанов в смене времён года, на движение небесных светил, а также на ход дождя, солнечного света и тумана, которые были ему одинаково приятны. Каждый вечер ровно в семь часов он настраивал радио, приникал ухом к динамику и вбирал в себя новости Би-Би-Си так, словно голос диктора был ценностью, которую ни в коем случае нельзя растранжирить. Так он узнал о Сталинграде и о высадке десанта в Анцио, об операции «Оверлорд» и о ночных бомбардировках в Гамбурге, Берлине и Дрездене.
Леон с ужасом замечал, что за тысячу дней оккупации ненависть росла в нём, как дерево; теперь она приносила свои плоды. Никогда и в страшном сне Леон не мог бы себе представить, что будет потирать руки при известии о пожаре в Шарлоттенбурге, никогда он не считал бы для себя возможным, что он вслух будет ликовать, радуясь гибели трёх тысяч женщин и детей за одну ночь; он с изумлением обнаружил, насколько горячо в нём желание, чтобы бомбовый град отныне не прекращался из ночи в ночь до тех пор, пока на всей земле не останется в живых ни одного немца.
Его ненависть помогала ему выживать, но затем произошёл один случай, который привёл его в замешательство. Однажды он стал свидетелем сцены, которая глубоко устыдила его, поскольку поколебала его ненависть. Однажды после обеда Леон в метро сидел напротив солдата Вермахта в форме и со штурмовой винтовкой. На станции Сен-Сюльпис в вагон вошёл молодой человек с жёлтой звездой на плаще. Солдат встал и безмолвным жестом предложил своё место еврею, который был приблизительно его возраста. Еврей помедлил, беспомощно огляделся, а потом без слов сел на освобождённое место и – должно быть, от стыда и безвыходного отчаяния – закрыл лицо руками. Солдат отвернулся от него и с каменной миной смотрел в окно, тогда как среди пассажиров воцарилась выжидательная тишина. Еврей сидел как раз напротив Леона, едва не касаясь его коленями. Ни еврей, ни вермахтовец не вышли ни на следующей, ни на послеследующей остановке, бесконечно длилась их общая поездка. И всё это время еврей не отрывал от лица ладони, а вермахтовец стоял перед ним в строгой армейской выправке. Поезд ехал и останавливался, ехал и останавливался. Потом, наконец, доехали до станции, на которой вермахтовец, повернувшись на каблуках, вышел на перрон. Когда дверь за ним закрылась, тишина в вагоне продолжалась. Никто не посмел сказать ни слова. Еврей по-прежнему закрывал лицо ладонями. Леону было видно, что на пальце у него обручальное кольцо и что уголки его глаз дрожали под указательными пальцами.
Лето 1944 года было тёплым и приятным, искупаться так и манило. Но пляжи Нормандии и Лазурный берег были недоступны из-за нашествия союзнических войск, поэтому жители Парижа оставались дома и использовали для купания Сену. Четвёртое августа было к этому времени самым жарким днём года. На тротуаре плавился асфальт, лошади вешали головы, а люди держались, если им непременно нужно было выйти, в узкой полоске тени, которую дома бросали на тротуар.
Леон, как обычно, провёл часы после окончания рабочего дня в своём плавучем доме и теперь в вечерних сумерках шёл домой. Когда он проходил мимо входных ворот музея Клюни, в тени арки стоял мужчина, надвинув глубоко на лицо кепку с козырьком. Леон почуял опасность. Он ускорил шаг и посмотрел на противоположную сторону улицы.
– Штс-с-с! – окликнул мужчина.
Леон шёл дальше.
– Хороший вечер, не так ли?
Леон ступил на проезжую часть, чтобы свернуть на улицу Сорбонны.
– Эй, да постой же!
Леон не останавливался.
– Руки вверх, ни шагу дальше!
Леон остановился и поднял руки вверх.
Мужчина у него за спиной засмеялся:
– Расслабься, Леон. Я пошутил!
Леон, поколебавшись, опустил руки и обернулся, потом вернулся на тротуар и оглядел человека, который теперь стоял в свете уличного фонаря. У него было остро очерченное лицо и пронзительные глаза, и Леону показалось, что он откуда-то знает его.
– Извините, мы знакомы?
– Я принёс тебе назад твои четыреста франков.
– Четыреста франков?
– Восемьсот раз по пятьдесят сантимов, помнишь? Я хотел податься на автовокзал Жорес, и ты мне в этом помог.
– Мартэн?
– Что, не узнал меня? Так точно, я твой личный клошар, инкарнация твоей чистой совести.
– Сколько же лет прошло, года три?
– Мы тогда прикидывали, что война продлится года три-четыре, – почти не ошиблись, а?
– Ещё не прошла.
– Но уже виден конец. Для нас, по крайней мере. Пойдём, я немного провожу тебя.
Клошар выглядел лет на десять моложе, чем при их последней встрече; глаза у него были ясные, а кожа на крыльях носа чистая, от него уже не пахло красным вином, и весь избыточный вес с него сошёл. Леон должен был признаться себе, что по сравнению с ним, он за это время заметно постарел; к тому же после нескольких часов в плавучем доме от него наверняка несло красным вином.
– Давно ты вернулся в город?
– Пару дней назад. Теперь уже недолго осталось, как ты знаешь.
– Я вообще ничего не знаю.
– Да знаешь, каждый ребёнок это знает. Американцы уже стоят в Руане, на Корсике тоже что-то зреет. Да и нас в городе пять тысяч человек.
– Кого это «нас»?
Мартэн достал из кармана кусок белой ткани и показал Леону. Это была нарукавная повязка, на которой были оттиснуты чёрные буквы FFL (Свободные Французские Силы).
– Наконец-то, – сказал Леон.
– Может, начнётся завтра, может, на следующей неделе.
– Если немцы перед этим не сделают то же, что в Варшаве.
– Мы за этим следим, – сказал Мартэн. – Но тебе, Леон, тоже есть чего остерегаться.
– Чего это?
– Скоро со всеми поквитаются. Кое-каким господам мы уши оттянем.
– И очень хорошо.
– Дело пойдёт быстро, и нам некогда будет особо разбираться. Будем раздавать оплеухи, и перед этим не станем рассусоливать и вести долгие разговоры.
– Понимаю.
– Я не уверен, понимаешь ли ты, – сказал Мартэн. – Ты действительно должен быть настороже. Ты на слуху, знаешь?
– Нет.
– Поговаривают о кофе, который ты получал в подарок от СС. Поговаривают о плавучем доме. За такие вещи в ближайшие дни будут наказывать, а время сейчас не то, чтобы делать тонкие различия. Наши люди в ярости, ты должен это понимать.
– Я тоже в ярости. И тебе ли не знать…
– Да, но другие этого не знают, а они не будут прислушиваться к педантизму и изощрённости. В дни, которые грядут, сначала будут наказывать, а только потом задавать вопросы. Поэтому тебе надо исчезнуть на пару недель. Прямо сейчас, немедленно, и до тех пор, пока всё не успокоится. Тогда сможешь вернуться и объяснить свои истории с кофе.
– Куда же мне податься?
– На юг! Сейчас лето, позволь своей семье отдохнуть пару недель на море.
– На Лазурном берегу?
– Ну, не совсем там, в ближайшие дни там будет неспокойно. Я бы тебе посоветовал скорее юг Атлантического побережья, немцы оттуда уже ушли. Биарриц или Кап-Ферре или Лакано, это дело вкуса.
– И вопрос денег.
– Вот четыреста франков, которые ты мне тогда одолжил. – Мартэн протянул Леону пачку банкнот. – И вот это… – Он полез во внутренний карман и извлёк вторую, существенно более толстую пачку денег: – …это остатки денег из ящика в твоём бюро.
– Как же вы…
– Я велел их достать, когда ты был на своей лодке – надеюсь, тебе же так будет лучше. Это чтобы не возвращаться в бюро специально для этого.
– Но…
– Да бери. Это тебе официально передаёт FFL, отныне это больше не нацистские деньги. Ключ мы положили назад в бакелитовый стакан. Дурацкое, кстати, место для того, чтобы спрятать ключ, если мне позволено будет заметить.
– По крайней мере, до сих пор никто не додумался.
Мартэн улыбнулся:
– Мы эти деньги в последние два года постоянно пересчитывали. Твоё счастье, что ты ничего из них не взял для себя.
– Лодка…
– Я знаю, Карон мне всё рассказал. И это тоже твоё счастье, но всё же пока ты должен скрыться. Шесть тысяч ты назад не получишь, за них ты можешь оставить лодку себе. Карон говорит, он не хочет её назад, потому что она теперь твоя.
– Ах так?
– Он говорит, лодка – что собака, ей нельзя несколько раз менять хозяина.
– Спасибо.
– Вот тебе билеты на поезд в Бордо, а там сам посмотришь, куда вам ехать дальше. И вот два пропуска. Один для немцев, второй для наших людей. Смотри не перепутай.
– Понимаю.
– Возвращайтесь не раньше двадцать шестого сентября. Поезд на Бордо отправляется завтра утром в восемь двадцать семь. Поверь мне, Леон. Сделай, как я сказал. И именно завтра утром, никак не послезавтра. А теперь иди домой и укладывай чемодан!
С этими словами он перешёл через дорогу и исчез под деревьями парка Клюни. Леон вспомнил, что в прошлый раз они на прощанье обнялись. Он спросил себя, почему сейчас они этого не сделали.
В тот день, когда в Париже работники городских больниц, служащие Банка Франции и служащие Судебной полиции примкнули к народному восстанию и начали забастовку, Леон Лё Галль в старомодных чёрных купальных трусах лежал в шестистах километрах юго-западнее набережной Орфевр в песках Лакано под красно-белым полосатым зонтом от солнца. Его жена Ивонна сидела рядом с ним с прямой, как свечка, спиной и наблюдала за своими четырьмя старшими детьми, тогда как младший Филипп строил песчаную крепость у неё в ногах.

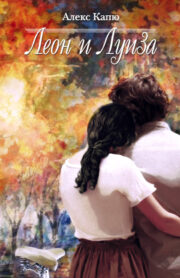
"Леон и Луиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леон и Луиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леон и Луиза" друзьям в соцсетях.