За моим окном парит над покрывшимся льдом озером широкий, точно уличная рекламная растяжка, орлан-белохвост, в слабом дневном свете иногда вдруг завозятся клесты, сбрасывая шишки с растущей возле угла террасы сосны, которую я каждую осень собираюсь повалить, чтобы стало посветлее. С верхушки телемачты, расположенной за деревней, возраста которой никто не знает, что-то высматривают вороны. Вот, собственно, и все. Северный и западный ветра, да тихий шепоток о просчетах и отчаянии островитян. Когда наконец в марте приходит весна, мухи уже разложены аккурат-ными рядами, за исключением нескольких, которые без конца перемещаются или так и остаются безымянными пехотинцами в легионах еще недостаточно исследованных учеными родов. Пустое место в ящике — тоже находка.
С первыми лучами мартовского солнца я начинаю посиживать на лестнице — тут, задолго до того как сойдет снег, раньше лесного жаворонка, малиновки и любителей бега трусцой, появляются первые мухи, правда не журчалки, а чердачные мухи, получившие такое название потому, что зимуют на чердаке. Они принадлежат к семейству каллифорид, или падальных мух, и тоже по-своему интересны, но исключительно от радости их никто не собирает. Во всяком случае, насколько мне известно. Просто в марте любое жужжание мух воспринимается как обнадеживающий предвестник лета. Падальные мухи всегда связаны с чем-то зловещим — они отдают затхлой мертвечиной и Уильямом Голдингом, что едва ли делает кого-либо счастливее, за исключением, пожалуй, отдельных судебных энтомологов, принадлежащих к непостижимому типу людей, которые считают своим долгом раскрывать жуткие убийства путем изучения обнаруженных на жертве личинок мух и других насекомых с названиями типа Sarcophaga (саркофага), Thanatophilus (мертвоед) и Necrophorus (могильщик). Исходя из того, какие именно паразиты живут в покойнике, и опираясь на стадии их развития, можно на удивление многое сказать о времени совершения преступления, а в отдельных случаях даже определить, что оно произошло не там, где обнаружили тело. Мрачная наука, пользующаяся стабильным спросом только в США. Можно углубляться в эту тему, чтобы расширить свой кругозор, но область применения этих знаний на практике, как правило, невелика. Кроме того, теряешь аппетит. А в конечном итоге в памяти остается лишь история о финской уборщице.
Дело было в конце семидесятых годов. Один чиновник правительства Финляндии обнаружил под ковром своего служебного кабинета жирные личинки мух. Он незамедлительно вызвал уборщицу. "Как, скажите на милость, могло произойти, — спросил он, — что офис кишит червями?" Никакого разумного ответа у уборщицы не нашлось. Она, разумеется, могла бы язвительно пошутить или позволить себе ряд саркастических замечаний, однако не стала. Сказала лишь, что ничего не знает и ее вины тут явно нет. Откуда взялись черви — загадка. Уборщица твердо стояла на том, что последний раз чистила ковер накануне. Чиновник ей не поверил, поэтому уборщицу незамедлительно уволили. Ее ведь уличили в недобросовестной уборке. К тому же она солгала. Ей здесь не место.
Однако тут откуда ни возьмись появился энтузиаст-ветеринар и попросил, из любопытства, разрешения посмотреть поближе на бурно обсуждавшихся в правительственных кварталах червей. Он никак не мог взять в толк, каким образом столь упитанным личинкам мух удавалось выживать, пробавляясь малопитательными синтетическими волокнами, из которых в то время делали ковры для надобностей финских государственных контор. Пытаясь внести в эту загадку ясность, он показал личинки энтомологу, обладавшему чутьем на публичные конфликты, — человеку, который сумел быстро определить, что речь идет о готовых к окукливанию личинках падальной мухи Pbaenicia sericata — зеленой мясной мухи. Энтомолог рассказал, что данный вид развивается в различной падали, например в сдохших в стенах домов мышах, и когда личинки наедаются, они покидают труп, чтобы ночью друг за другом перебраться в подходящее для окукливания место. Таким образом личинки и угодили под ковер к рассерженному бюрократу. Уборщица вновь обрела свое рабочее место. Извинилось ли перед ней финское правительство, не известно.
Никогда заранее не знаешь, где могут пригодиться знания, какими бы пустяковыми они ни казались. В расправу над крупной падалью может быть вовлечено более пятисот видов.
Конечно, это отвратительно. Охотно соглашаюсь с любым высказыванием такого рода. Однако тут не все так однозначно. Позвольте мне, прежде чем вернуться к грациозным и во всех отношениях приятным журчалкам, рассказать еще одну забавную историю. Одно время поговаривали, будто несколько энтомологов с материка провели исследование, которое по всем статьям могло бы стать легендарным. В любом случае оно — наглядный пример непреодолимой тяги, заставляющей любознательных юношей изучать острова даже там, где таковых не имеется. Вернее, где остров невозможно обнаружить без творческой фантазии, отличающей художников и прирожденных исследователей.
Все такие острова находятся в архипелаге Пуговицеведения. У нас еще будет повод туда вернуться. Это лишь первая рекогносцировка.
Занавес поднимается в тот момент, когда на обочине дороги лежит только что задавленный кем-то барсук. Через мгновение по той же дороге тихо и спокойно едет один из наших энтомологов с богатой фантазией. Заметив барсука, он останавливает машину, выходит и задумывается над тем, что здесь произошло. Так и представляешь себе эту сцену. Одинокий автомобилист стоит апрельским днем, склонившись над мертвым барсуком. Размышляет. Ему в голову приходит идея. Он засовывает труп в багажник и едет дальше.
Тут кому-то, возможно, вспомнится старая сказка Х.К. Андерсена "Ханс Чурбан" — о парне, который нашел на дороге дохлую ворону и забрал ее с собой, поскольку никогда ведь не знаешь, в какой момент тебе пригодится дохлая птица. Примерно так же все получилось и на этот раз, с той разницей, что нашедший мертвое животное уже с самого начала знал, как будет использовать его тело. (Собственно говоря, Ханс Чурбан это тоже знал. Он намеревался подарить ворону принцессе, что потом и проделал. Восторг последней по поводу этого подношения — одно из самых туманных мест в датской литературе.)
Годом ранее нынешний исследователь барсука проявил интерес к задавленному коту из "the Forest of Brandbergen", как он был поименован в статье в английском журнале "Entomologist’s Gazette", а также в последующих работах. Оказалось, что тут было о чем писать, ибо наш автомобилист начал вместе с товарищами изучать, как в трупе образовалась фауна жуков и как она видоизменялась на всех стадиях разложения. Они трудились четыре месяца. В общей сложности в трупе удалось обнаружить восемьсот восемьдесят одного жука, подразделявшихся минимум на сто тридцать различных видов, а это много. Аналогичные исследования в других частях мира не идут ни в какое сравнение.
Исследователи сразу оказались в центре внимания. Жуки из впоследствии полностью съеденного ими кота спровоцировали ряд вопросов о поведении падальной фауны вообще, и в особенности о ее зависимости от качества почвы на месте происшествия. Кроме того, эксперимент сочли необходимым расширить по той простой причине, что трупы похожи на острова, колонизацию которых и возникновение их экосистемы можно проследить от момента возникновения, как, скажем, на острове вулканического происхождения Суртсей, выступившем из моря около Исландии. Или на Кракатау в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра, где в 1883 году взорвался вулкан, вследствие чего дальше развитие и фауны и флоры пошло с нуля.
Барсук был случаем того же рода, и его сразу пустили в дело. Правда, в отличие от истории с котом, которая разыгрывалась на обычном лесном пригорке, с березами, цветами и мхами, теперь было выбрано гораздо более сухое и, в биологическом отношении, более бедное место — расположенный повыше каменистый участок, где растительность по преимуществу состояла из вереска и тоненьких сосен. Здесь и обрел пристанище покойный барсук, а чтобы тело, ненароком оставленное без присмотра, не утащила лиса, его поместили в такую стальную клетку, какие обычно служат домиком для полуручных кроликов и морских свинок, бегающих в колесе. Эту картину тоже легко себе представить. Мертвецки мертвый барсук в тесной клетке для домашних любимцев посреди леса. Зрелище было настолько диким, что клетку сочли необходимым снабдить маленькой табличкой, разъяснявшей, что тут занимаются наукой, а не чем-нибудь другим.
Признаюсь, мне порой тоже хотелось иметь при себе такую табличку.
В апреле, начиная с того дня, когда южное солнце вскрывает ранние почки на вербе, вылетают и первые журчалки. Их маленькие, неприметные разновидности, которые в книгах нередко называют раритетами, возможно потому, что они действительно редки, но скорее всего потому, что их просто никто не успевает увидеть. Насекомых собирают летом — во время каникул и отпусков, так было всегда, и поэтому летняя фауна гораздо лучше известна, чем ранние весенние мухи, которые иногда летают всего неделю или две. Кроме того, лучшие вербы, как правило, настолько высоки, что сачком до них не достать; можно стоять под ними и смотреть в бинокль на то, что происходит в цветках наверху, мучительно размышляя, какие виды мух там летают. Можно, конечно, обзавестись сачком на длинной палке (находчивые чехи продают восьмиметровые палки для сачков) и стоять в лучах весеннего солнца, как сбившийся с пути прыгун с шестом, но говорят, что довольно трудно сохранять достоинство, маневрируя таким дрыном, поэтому я вместо этого отыскал несколько маленьких верб, которые все же цветут. Четыре-пять зарослей в разных местах острова. Там я и провожу те апрельские дни, когда светит солнце и трава растет с такой скоростью, что лежащие на земле сухие листья шуршат. Какие кусты я выбираю, зависит от направления ветра.
Потом наступает черед печеночниц. За ними появляются ветреницы, лютики, калужницы, примулы, а когда в середине мая распускаются цветы клена, все зимние невзгоды окончательно забываются.
Один их окрас приводит меня в прекрасное расположение духа. Цветы клена зеленовато-желтые, а молодые листики желтовато-зеленые — именно так, а не наоборот. На расстоянии смесь этих двух полутонов образует третий цвет, настолько прекрасный, что для его описания в языке просто нет подходящих слов. Как всем известно, ближе к лету зелень приобретает более глубокий оттенок, а цветение клена как раз является стартовой точкой, когда вокруг светлее и прелестнее всего. Неделя, может быть две, а затем уже всерьез распускается ольховый лес. Мне бы искренне хотелось, чтобы это знали все. "Цветет клен". Тогда бы не требовалось оставлять более длинные сообщения на автоответчике. Люди бы все понимали. Смотрели на краски, проникались оттенками — и понимали. Тогда летает все, абсолютно все. Тысячи комментариев. Целый справочный аппарат.
6. Рене Малез (1892—1978)
Рене Эдмон Малез родился в Стокгольме и очень рано оказался в плену всевозможных соблазнов энтомологии. Вечно одна и та же история. Да и разве есть среди нас такие, кто впервые ступил на эту стезю не в детстве?
Согласно семейной легенде, в его случае все решили летние каникулы, проведенные во Франции, у кузена, который собирал бабочек. Рене незамедлительно взялся за дело. Основами ботаники он уже владел, поскольку его мать была дочерью садовника или же просто потому, что мальчику из хорошей семьи в то время полагалось иметь полноценный гербарий. Его отец — блестящий повар, переехав в Швецию из Франции, он долгие годы работал шеф-поваром в знаменитом ресторане "Оперный погребок". От него Рене унаследовал определенную тягу к ресторанам, а позднее — деньги, но отнюдь не интерес к еде. На протяжении всей жизни он, напротив, главным считал питательность, а не вкус. С годами у него накопилось много баек о цинге и зажаренных в яме медведях.
Малез был прирожденным охотником, и уже в детстве у него проявилась склонность к экстравагантным методам ведения охоты и необычным трофеям. Он сам частенько рассказывал о снайперской стрельбе в Стокгольме, на добропорядочной площади Эстермальмсторг, где на рубеже веков на одном из верхних этажей жила его семья. Вдохновившись каким-то описанием жизни в тропиках, он изготовил трубочку и оттачивал меткость, вонзая, подобно плюмажу, острые стрелы в шляпы проходивших по площади дам.
Бабочки тоже стали лишь подготовительным этапом. Несколькими годами учебы. Если я правильно представляю себе Малеза, то фауна шведских бабочек показалась ему уже слишком хорошо изученной. Думать о сколько-нибудь серьезных открытиях не приходилось, а перспектива дополнять прежние достижения его устроить никак не могла. Ему хотелось стать первопроходцем. Быть совершенно независимым.
Выбор пал на пилильщиков: почему — не ясно, но вероятно, потому, что ими всерьез никто не занимался. Во всяком случае, в Швеции. Кроме того, настоящие пилильщики, или, как говорят знатоки, тентрединиды, были плохо изучены в таксономическом плане и вообще считались неудобными для систематизации. Трудными для определения насекомыми, в области которых молодой человек мог сделаться выдающимся экспертом, не тратя слишком много времени на исследования в поле и в небогатых на события музеях. Перед ним открывалась научная карьера Линнея; прямо за углом ждали приключения, способные пусть и не угомонить, но хотя бы отчасти занять беспокойную душу.

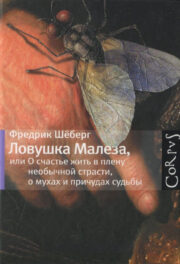
"Ловушка Малеза, или О счастье жить в плену необычной страсти, мухах и причудах судьбы" отзывы
Отзывы читателей о книге "Ловушка Малеза, или О счастье жить в плену необычной страсти, мухах и причудах судьбы". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Ловушка Малеза, или О счастье жить в плену необычной страсти, мухах и причудах судьбы" друзьям в соцсетях.