Из–за постоянных финансовых трудностей отца мама продолжала работать в аптеке, куда устроилась еще студенткой. Если кто–то спрашивал ее, чем она занимается, она неизменно отвечала: «Продавщица».
— Франческа, скажи, что ты — фармацевт! — подбадривал ее отец.
— Какая разница? — отзывалась она. — Продаю карамельки от кашля, прокладки, пластырь… Ну, бывает, измерю давление.
В ее голосе не было ни досады, ни раздражения. Она выбрала эту аптеку, самую большую в городе, где ей позволялось работать до обеда: двое детей и муж — третий ребенок. Она любила его. В те времена, если уж ты выходила замуж, то не мучилась потом всю жизнь сомнениями в правильности выбора.
Я не уверена, что смогла бы так.
Отец был сложный человек — неуверенный, с перепадами настроения, абсолютно непредсказуемый, к тому же ужасный пессимист. В те времена я не понимала, а сейчас знаю, что это депрессия. Заторможенный, молчаливый и вялый зимой, он оживал летом. Угасал в начале ноября и снова расцветал в мае. Ему досталось в наследство небольшое поместье за городом, правда, он управлял им из рук вон плохо, хоть и проводил много времени в доме у дамбы на По. Ловил рыбу, гулял с собакой, пытался заниматься хозяйством, которое, тем не менее, целиком сосредоточилось в руках управляющего.
Если был в духе, говорил, что посадки конопли сводят его с ума. Что в его семье все были немного того. Когда после исчезновения брата меня отправили к психологу, я рассказала ей об этом, и та пыталась убедить меня, что склонность к наркотической зависимости Майо унаследовал от отца.
Никогда и никому не поверю, что, если б в тот июньский вечер я не предложила ему попробовать героин, он все равно бы подсел, раньше или позже.
Если бы не моя безумная затея, брат был бы жив и, наверное, родители тоже. Мой малахольный отец и измученная мама — такие, как есть, но живые. Возможно, они переехали бы в деревню, а мы бы ездили их навещать. Мы обедали бы в саду, а потом гуляли бы по дамбе с собаками. У Антонии были бы дедушка и бабушка, двоюродные братья и сестры, а у меня — иная жизнь.
Майо ни за что не начал бы колоться, не предложи я ему, в этом я уверена. Это не навязчивая идея, просто я знаю. Такой нерешительный, он во всем мне верил, во всем подражал. Все мне верили.
Это я, я сама все разрушила, и ад, в котором я продолжала жить, минута за минутой, достался мне по заслугам.
Я повернулась к ней, дотронулась до руки, гладившей мою щеку. Прикосновение кольца, — она носила его поверх обручального — маленький сапфир в окружении бриллиантов, потом я подарила его Антонии.
Ледяная рука и этот камень встревожили меня. Обычно нас будил отец. Должно быть, что–то произошло.
— Что такое?
— Ты видела Майо вчера вечером? Уже девять, а он еще не вернулся.
— Я была у Лауры Трентини, ты же знаешь, он больше не ходит с нами.
Теперь каждый жил своей жизнью. Его жизнь — постоянные поиски дозы и зависание допоздна в убогой пивнушке с амбициозным названием «Поль Верлен».
— Наверное, у кого–то переночевал, — сказала я.
Представила себе сцену: обколотый, он мог оказаться где угодно — в чьей–то машине, в общественном туалете. Домой он вернулся бы дурно пахнущий, возбужденный, или спокойный, безразличный, в зависимости от того, сколько дури удалось найти.
— Думаю, да. Я так и сказала папе, чтобы он не волновался.
— Тогда зачем ты меня разбудила?
Мне показалось странным, что мама решила разбудить меня просто так, без причины — импульсивностью она не отличалась.
— По радио только что сказали… сегодня ночью… — начала она и замолчала, взяв меня за руку.
— Что?
Я села на кровати и зажгла лампу на ночном столике.
Поверх сорочки мама накинула белую шерстяную кофточку с перламутровыми пуговицами. Эта кофточка мне очень нравилась, мама сама связала ее крючком. Она была элегантной всегда, даже рано утром.
Мне стало стыдно за свою одежду, брошенную накануне вечером на стул как попало: трусы торчат из брюк, носки на полу, книга под кроватью, спертый воздух в комнате. Захотелось открыть окно, навести порядок, разложить все по местам. Я не желала знать, что сказали по радио.
— Сегодня ночью умерли от передозировки два парня, их нашли в машине неподалеку от Понтелагоскуро[3]. — Она сжала мою руку.
Где–то в желудке я почувствовала вибрацию. Будто дернули струну с низким глухим звуком.
— Как их зовут, сказали?
— Ренато Орсатти и Сандро Путинати, двадцать лет. Ты их знаешь?
— Первый раз слышу.
— Они из пригорода, из Массафискальи. Бедные мальчики…
То, что они не из Феррары, меня успокоило: Майо тут ни при чем.
Но мама поняла все правильно. Две смерти от передозировки означали, что поступила партия слишком чистого героина. Потом, когда во время расследования допросили друзей Майо и местных наркоторговцев, стало понятно, что многие наркоманы в тот субботний вечер замечательно «отъехали».
Вернулись все, кроме Ренато и Сандро. И Майо…
Только Майо исчез.
Антония
У Лео теплая рука. Я люблю эти большие сильные руки, эти запястья с веснушками. В день, когда мы познакомились, он терпеливо разъяснял мне следственную процедуру при убийстве, а я смотрела на его запястья, выступающие из рукавов рубашки бледно–голубого цвета, цвета его глаз. Сегодня на нем пижама такого же цвета, стариковская, хотя ему всего лишь сорок.
Он кажется старше своих лет, может, из–за небольшого животика, из–за очков и необычной лысины, как у монаха: тонзура с чайную чашку в окружении густых волос, медно–рыжих, с серебристыми нитями седины. Я по запястьям поняла, каков Лео. Влюбилась в запястья.
— Помнишь, в среду я ужинала у родителей? Мама была очень взволнована. Я даже подумала, что у нее температура, такой странной она мне показалась. Мы были одни, Франко ужинал у ректора.
Накрывая на стол, она вдруг объявила, что решила сказать мне нечто важное. Усадила меня, налила себе вина — ты же знаешь, она никогда не пьет — и рассказала невероятную историю.
Лео весь внимание. Он больше не гладит мне живот, скрестил руки на груди, будто сидит не в постели, а в кресле за своим рабочим столом в комиссариате.
— Слово в слово повторить не смогу, поэтому перескажу вкратце. Помнишь, у нее был брат?
— Какой брат?
— Младший, я же тебе говорила, они были погодки. Марко, но все звали его Майо. Я думала, он умер от болезни, мама никогда о нем не рассказывала.
— И?..
— Он пропал, в неполные восемнадцать. Считается, что умер, но тело так и не нашли.
Лео снимает очки, он всегда так делает, когда что–то не сходится. Поворачивается ко мне.
— Как же так?
— Теперь ты понимаешь, почему я хочу расследовать это дело? Какая–то нелепая история. Мама уверена, что все случилось из–за нее.
— Из–за нее? — в его взгляде недоверие.
— Это она предложила ему попробовать героин, с тех пор он стал колоться и однажды ночью пропал.
— Твоя мать кололась? Что ты несешь?
Он снова надел очки и смотрит с упреком, будто я над ним издеваюсь.
— Не строй из себя полицейского, был конец семидесятых, и они, подростки, решили один раз попробовать. Она ограничилась одним разом, а он не смог. В ту ночь, когда он пропал, двое парней умерли от передозировки, так что решили, что он тоже умер, но, возможно, был кто–то еще, кто спрятал тело, чтобы отвести подозрения. Спустя шесть месяцев мой дед покончил с собой. А бабушка заболела раком, — выдаю я на одном дыхании.
— Черт возьми!!!
— Черт возьми, вот именно.
— Значит, твой дядя пропал тридцать четыре года назад?
— Около того.
— И что ты задумала?
— Поехать туда, поговорить с теми, кто его знал. Понять…
— Но зачем?
— Чтобы помочь маме. Она все еще уверена, что это ее вина, представляешь? Хотя прошло столько времени. И себе тоже.
— Дорогая, думаешь, это один из твоих детективов? Во–первых, ты беременна, а во–вторых, что можно раскрыть в давней истории? Полиция провела расследование, неужели ты надеешься узнать что–то новое, чего они тогда не узнали?
— Ты же сам говоришь, что иногда вы недорабатываете, что сторонний человек даже представить себе не может, до чего халтурно порой идет следствие, теряются улики, дела раскрываются по воле случая…
— С ума сошла, ничего подобного я не говорил… — и осекается, знает ведь, что говорил. — Антония…
— Да, милый.
— Я люблю тебя…
— Я тоже тебя люблю.
— Могу я чем–то помочь?
— Можешь сказать своему коллеге из Феррары, что я хочу поговорить с ним. Следственные дела у них сохраняются?
— Думаю, да. Я попрошу его поискать. Надо знать, когда пропал твой дядя. Если они никуда не переезжали, если не потеряли дело… Скорее всего, тех следователей уже нет в живых.
— А вдруг есть? Может, кого–то еще застану, на пенсии.
— Может быть. Не хочешь ли, чтобы я этим занялся? Мне было бы проще.
— Я хотела бы сама, лично, и хочу поехать туда. Мне нужно понять эту историю. Дядя — наркоман, дедушка — самоубийца… Конечно, я их не знала, но все же…
— Мама твоя тоже хороша… рассказать такую историю, когда ты ждешь ребенка… — Вид у Лео грустный.
— Она говорит, что специально так сделала, что беременные неуязвимы.
— Надеюсь…
Лео вздыхает. Он обожает мою мать. Иногда, чтобы подразнить меня, говорит, что она лучше и что, наверное, он в нее влюбился. Мама красивая, что правда — то правда, всегда была красивой, даже если не признает этого. Альма вообще странный человек. Кажется неуверенной, но в действительности у нее очень сильный характер. Непредсказуемая, противоречивая, все решает сама. Такая эмоциональная, что не любить ее невозможно, хоть она и убеждена, что невыносима, и, надо признать, нередко бывает такой. Когда я была подростком, мы не ладили: это она казалась мне тинейджером, иногда кажется и сейчас.
— Сколько времени думаешь провести в Ферраре?
— Неделю максимум. В понедельник мне надо быть на приеме у врача. Попробую поговорить с полицией, с теми, кто знал Майо. Нужно сделать это до рождения Ады. Раньше я ничего не знала о маминой семье. Теперь понимаю почему.
— Ты ей сказала?
— Нет, не могу. Она не поймет. Ты должен меня прикрыть. Ты даже не представляешь, насколько ей трудно об этом говорить. Она уверена, что разрушила семью своими руками!
— А отец?
— Он ничего не знает. Мы увидимся завтра, нужно многое у него спросить. Альма уехала в Рим на выставку Гирри[4], и мы договорились пообедать вместе.
— А что говорит твоя доктор Маркетти?
— Что со мной все в порядке и что, в любом случае, в Ферраре есть отличная акушерка.
— Ты уверена, она именно так и сказала?
— Нет, конечно. Думаешь, я рассказала гинекологу личную историю? В самом деле, чувствую я себя превосходно. Твоя мама работала до последнего, и смотри, какой прекрасный ты получился.
— Но моя мама не… Ладно, Тони, делай, как знаешь, тебя все равно не переубедишь.
— Буду дома в воскресенье или раньше. Не волнуйся.
Альма
Мы пошли с Бенетти домой к одному типу, торговцу. Это был взрослый дядька, с усами, я никогда его раньше не видела. Он не был похож на наркомана и не хотел брать с нас денег. Мы еще подумали, что нам повезло.
Выглядел он довольным, держался любезно. Сам сделал нам укол, и было ощущение, будто по венам сразу же разлился сильный дурман.
Всю ночь нас рвало, и на следующий день мы проснулись очень поздно, с зелеными лицами.
Не говоря друг другу ни слова, мы схватили велосипеды и поехали в школу смотреть результаты. Как и предполагалось, Майо ожидала в сентябре переэкзаменовка по латыни. У меня средний балл «четыре» — лучше, чем я думала. Мы не ощутили ни радости, ни разочарования, только усталость и опустошение, словно беспечно потеряли что–то ценное, испытывали угрызения совести и вместе с тем не хотели это признать. В автобусе, который вез нас в деревню, сказали только, не глядя друг на друга: «Больше никогда».
Я сдержала обещание. Бросила даже курить косяки, настолько мне было плохо. Майо после каникул попробовал снова. Однажды вечером, ничего мне не сказав, пошел искать отраву. Как при укусе змеи, яд проник глубоко и подействовал. Никто не знает, от чего это зависит, — загадка. У меня было противоядие, у него — нет.

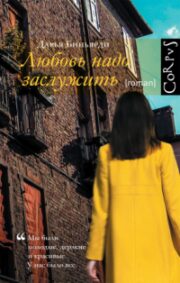
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.