Месяц он кололся раз в неделю, по субботам. Мне сказала об этом Микела.
Я не хотела, не могла поверить. Я была напугана, но еще больше — рассержена. Пробовала говорить с ним, но он отмахивался, отвечал, ерунда, ничего страшного, не бери в голову. Потом каждый день. Мама заметила, стала давать ему метадон. Она никогда не теряла самообладания. Как ни странно, но то, что проблема в какой–то степени была ей знакома: ведь ребята приходили в аптеку за шприцами, — только усугубило ситуацию. Мама не расстраивалась, не паниковала. А он принимал метадон утром, а вечером кололся. И привыкание наступило еще быстрее.
Мы не знали, как сказать отцу. Он думал, что Майо устает в школе. Я готовилась к выпускным экзаменам, по–прежнему встречалась с друзьями, но радость померкла. Когда в семье серьезная проблема — это тягостное молчание, вечная тревога, пустота, которая скребет в желудке, постоянное недомогание.
Я злилась на Майо, на родителей, на всех. Считала, что это несправедливо. Я же хотела только пошутить тогда, вечером, в начале лета. Мне всего восемнадцать. Это просто–напросто глупая выходка, как было однажды, когда мы в горах напились граппы. Если он меня любит, он не может так со мной поступить. Это несправедливо. Мама говорила, что он вылечится, что она знает много случаев. Отправила его к психологу, но Майо, закончив сеанс, бежал колоться. «Из–за этого придурка мне только хуже», — так он мне сказал.
Он очень изменился. Если был под кайфом, без конца болтал, говорил какие–то глупости, если нет — молчал, смотрел в одну точку, зрачки расширены. Думаю, чтобы покупать «дурь», он ею и приторговывал. Уходил из дома в два, сразу после обеда, и возвращался в восемь вечера. Перестал учиться и часто прогуливал школу. Я так на него злилась, что не хотела с ним говорить. Он стал совсем другим, и я терпеть его не могла. Ненавидела и его предательство, и свое чувство вины.
Как–то на ужин мама приготовила куриные эскалопы. Отец положил себе добавки, потом посмотрел на тарелку Майо — тот ни к чему не притронулся, и сказал:
— Почему не ешь? Не хочешь? Ты же так любишь эскалопы.
Я не могла больше сдерживаться. Я взорвалась:
— Папа, он уже давно ничего не ест! Как ты раньше не замечал?!
Отец посмотрел сначала на меня, потом на Майо, потом перевел взгляд на маму.
— Что происходит? Ты заболел, Майо? Франческа, скажи мне правду.
И мама наконец–то произнесла:
— Джакомо… У Майо проблема, наркозависимость… но мы справимся. Я как раз ищу общину…
Майо попробовал улыбнуться и сказал:
— Простите, мне очень жаль. Все не так плохо, просто я действительно не голоден.
Он чесался. От него несло табаком и еще чем–то прогорклым. Он был под кайфом, и я знала, что он страдал от этого, но не так, как я.
Ему было наплевать на всех нас.
Отец встал из–за стола, подошел к Майо сзади и обнял его за плечи.
Майо остался сидеть: напряженная спина, неподвижное лицо.
Отец плакал, сжимал его плечи.
— Простите меня, — сказал он.
Потом ушел в свою комнату и упал на кровать.
Я не поняла, за что мы должны его простить, но я ненавидела его, ненавидела их всех. Маму — за то, что она ничего не сказала, и отца — за его слабость.
Почему они не рассердились, не заорали? Никто не защитил нас. Никто не защитил меня.
Это был последний раз, когда мы собрались вместе.
Не знаю, о чем разговаривали родители в тот вечер, но полоска света под дверью в их комнате оставалась допоздна. Я представляла себе маму, утешающую отца.
На следующий день была суббота, утром я ушла в школу, мама — в аптеку, отец — на собрание сельхозкооператива. Майо спал до обеда. Домработница сказала, что он проснулся, выпил чаю с печеньем и куда–то пошел. Больше мы его не видели.
Антония
— Она тебе рассказала?
Мы сидим с папой в «Диане», его любимом ресторане на виа Индипенденца.
— Да. Ты знал?
— С тех пор, как ты забеременела, она только об этом и думает. Она уверена, что раньше этого делать было нельзя.
Длинноносый официант приносит тарелку с пармезаном и нарезанной кубиками мортаделлой. Он совсем седой, я помню его с детства — красивый мужчина, всегда любезно улыбается, но имени его не знаю. Спрашиваю у отца.
— Понятия не имею, как его зовут. А зачем тебе?
— Просто так. Почему же Альма не могла рассказать мне раньше о брате и обо всем остальном? Чего она боялась?
Я часто зову родителей по именам: Альма и Франко — привыкла с детства, когда слышала их обращение друг к другу. Что интересно, так часто делают единственные в семье дети.
— Чего боялась? Многого. Тяжело узнать, что твой дед покончил с собой, а дядя без вести пропал.
— Тебе никогда не приходило в голову, что я должна об этом знать?
— Мне — приходило. Но ты же знаешь, я всегда уважал ее выбор.
— Ты думаешь, в этом есть ее вина?
Отец наливает мне немного ламбруско.
— Тебе можно пить?
— Полбокала, да.
Он наполняет маленький пузатый бокал. Вино приятное, легкое, игристое.
— Конечно нет. Так получилось. Все происходит по воле случая. Только она этому никогда не поверит, а у нас никогда не будет неопровержимых доказательств. Но, возможно, кое–что сможет примирить ее с прошлым… — По его губам скользит едва заметная улыбка. — И знаешь, что? Ты думала над этим? — пристально смотрит на меня.
Мой отец в любой ситуации остается профессором, никогда не упустит возможности порассуждать. Представляю себе пожар: «А скажи, пожалуйста, что здесь сделано из несгораемого материала?» — спросит он, когда все вокруг будет полыхать и взрываться.
Но у меня есть ответ на его вопрос, я думала над этим.
— Если я узнаю, как он пропал.
В его взгляде удовлетворение.
— Попробуешь?
Длинноносый официант приносит тортеллини. Улыбается шире, чем обычно, чувствую, спросит про мою беременность: я заметила, что его взгляд скользнул на мой живот.
Прежде чем ответить, пробую ложку ароматного, горячего бульона. Вкус восхитительный: я заметила, во время беременности вкусовые ощущения обостряются.
— Конечно, попробую.
Франко положил ложку, посмотрел на меня с улыбкой.
— Когда я был моложе, я сам хотел это сделать.
— И что тебе помешало?
Пристально смотрит на меня, а сам крутит большим и указательным пальцами правой руки кольцо на безымянном пальце левой. Старое обручальное кольцо красного золота. Я знаю, что внутри выгравировано имя моей бабушки — Франческа, а на мамином кольце — Джакомо, имя дедушки. Эти обручальные кольца — немногое из того, что мама сохранила в память о своей семье. Еще одно бабушкино кольцо — маленький сапфир с бриллиантами — она подарила мне. Я ношу его всегда. Действительно, странно: они никогда не говорили об умерших бабушке и дедушке, а носят их обручальные кольца.
— Если я скажу глупость, ты подумаешь, что твой отец сошел с ума? — спрашивает он, стараясь быть серьезным.
— Пожалуй, это интересно — хоть раз услышать от тебя какую–нибудь глупость.
— Молодчина! — улыбается отец.
Родители всегда с восторгом воспринимали мои слова, с тех самых пор, когда года в четыре я стала складывать буквы и писать на подаренной мне доске: «дом», «кот».
Будучи подростком, я начала догадываться, что мои родители не предназначены для этой роли, что им пришлось заучить ее. Они стараются, играют хорошо, правильно, но без вдохновения. Тогда я решила уйти из дома, чтобы не возненавидеть их за это.
Франко вытирает без того чистые губы большой белой салфеткой.
— Я был уверен, что только ты сможешь, ну, вроде как выполнить предназначение. Нелепое убеждение, но я его не стыжусь.
Не стыдится, а щеки покраснели.
Может, от еды или от вина.
— Semel in anno licet insanire[5]. Ты — мой единственный раз в году, ты всегда им была.
Хочу ответить, что его надежда на то, что я смогу раскрыть семейные тайны, совсем не кажется мне глупостью, но официант опережает меня своим вопросом:
— Что подать на второе? Как всегда, запеченные овощи? Или, может быть, жаркое?
Конечно, он заметил мой живот, намекает, что беременные едят за двоих. Прописная истина, и в моем случае это так: я ем гораздо больше, чем обычно.
Франко жестом дает понять: «Я больше ничего не буду, а ты бери что хочешь».
— Пожалуйста, овощи гриль и двойную порцию крокет с соусом, — я заказываю самое дорогое блюдо меню, чтобы порадовать официанта. Хочу отблагодарить его за наше тридцатилетнее знакомство, хотя за все время так и не удосужилась узнать его имя, правда, не по своей вине — просто мои родители всегда были патологически закрытыми людьми. Действительно, официант не может сдержать радости:
— Отлично! На здоровье. Когда ожидаете прибавления? Можно поздравить профессора, ведь он станет дедушкой? — и рассыпается в любезностях, глядя на моего отца, а тот от смущения лишь улыбается и кивает.
Теперь профессору придется выучить новую роль — роль дедушки.
Альма
Я снова вспоминаю наше детство. Наши игры, семейные поездки на машине. И летучих мышей.
Летом в деревне окна часто оставляли открытыми, и вечером, если горел свет, к нам обязательно залетала летучая мышь — существо, которое приводило маму в паническое состояние. Мама кричала: «Джакомо, Джакомо, скорее! Она здесь!»
Прибегал отец и начинал наступление на комнату, захваченную врагом, тесня неприятеля к окну взмахами швабры. Мы обожали эту сцену: испуганная мама, спешащий на помощь папа — рыцарь, побеждающий дракона, а иногда мы специально не закрывали окна и включали свет. Утром искали выброшенный во двор трупик мыши — маленькое тельце, покрытое мягкой шерсткой.
Чтобы искупить нашу жестокость, я решила, что убитых летучих мышей мы будем торжественно хоронить под ореховым деревом, со свечками и венками из полевых цветов.
Отец покончил с собой в этом доме. Я нашла его там.
Сказать, что нашла — не совсем верно. Я услышала. И когда услышала, сразу поняла, что это за звук. В последние дни я знала и боялась, что он может застрелиться. Ужасно признаться, но тогда я почувствовала облегчение — освобождение от страха, что он может сделать это. Дорого же я заплатила потом за это освобождение!
После исчезновения Майо отец очень изменился. Помогал полиции вести расследование, но и сам не терял времени даром. Такую решимость, такую изобретательность он не проявлял даже в лучшие времена. Как будто они с мамой поменялись ролями: она — пассивная, он — деятельный, неутомимый. Он съездил в Рим, в Министерство внутренних дел. Нанял частного детектива, поговорил с родителями друзей Майо, стал завсегдатаем баров, куда те ходили, расспрашивал управляющих, торговцев наркотой, случайных прохожих.
— Я найду его, Франческа, найду, — повторял он маме, — вот увидишь, обязательно найду.
Не нашел.
Майо растворился в тумане.
Мы так и не выяснили, кололся ли он в тот вечер, и если да, то с кем, и все же знали, что он был под кайфом, ведь он и дня не мог прожить без героина. Его следы затерялись субботним днем: последним, кто его видел, была кассирша кинотеатра, где он смотрел «Предзнаменование», американский фильм ужасов, первый дневной сеанс.
Я думаю, он пошел в кино один, хотел найти место, чтобы уколоться, или укрыться, или поспать. С тех пор, как он подсел на героин, он ничего не читал и не ходил в кино, словно отупел. Его приметила старушка–кассирша, в пять он вышел из кинотеатра на пьяцца Карбоне. Она узнала его по ремню с металлическими заклепками на фотографии, опубликованной в газетах.
В этом районе было как минимум два места, где торговали наркотой, но никто не признался, что продал ее Майо. Впрочем, также осталось неизвестным, кто продал «дурь» Сандро и Ренато, двум парням, умершим в ту ночь.
Отец встречался с их родителями, показывал им фотографию Майо, но они сказали, что никогда его не видели. Они не знали, завидовать нам или сочувствовать. Да мы и сами не представляли, что лучше — найти тело или продолжать отрицать трагический конец.
Необыкновенная энергия моего отца мало–помалу угасала. Вечером, в день моего последнего экзамена, летним вечером, наполненным липовым ароматом, как и тогда, когда все началось, мы пошли ужинать в ресторан, куда часто ходили все вместе, вчетвером.
Мама пыталась улыбаться, но ей нездоровилось, она почти ничего не говорила. Мы заказали угорь и белое вино, но никто не ел. Отец выпил три бокала вина и тихо заплакал. Было жарко и душно, слезы капали прямо в тарелку. Он не смотрел на нас, сидел неподвижно. Мама обхватила голову руками.

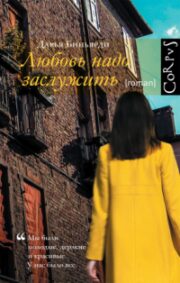
"Любовь надо заслужить" отзывы
Отзывы читателей о книге "Любовь надо заслужить". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Любовь надо заслужить" друзьям в соцсетях.