– У них был сумасшедший день. Панталоны для рыбалки у Вэнк стали, если можно так выразиться, одной сплошной дырой.
– Марта!
– Что «Марта»? Нельзя упоминать про панталоны? Но мы же не в Англии!
– Перед молодым человеком!
– Это не молодой человек, а Флип. Кстати, Флип, старина, что ты там рисуешь?
– Турбину, господин Ферре.
– Мои поздравления будущему инженеру… Одбер, вы видели луну над Груэном? Вот уже пятнадцать лет я наблюдаю её восход над морем. Ах! Луна в августе не может надоесть! Подумать только: пятнадцать лет назад Груэн был голым, а теперь там деревья: ветер занёс их семена…
– Вы мне рассказываете об этом, Ферре, словно какому-то заезжему туристу. Пятнадцать лет назад я уже искал, где здесь можно потратить мои первые сбережённые шестьсот монет…
– Уже пятнадцать лет! Ну да! Флип ещё не мог ходить не держась за руку… Жёнушка, ты посмотри на эту луну. Видела ли ты у неё такой оттенок за все эти пятнадцать лет? Ну да, клянусь, она… зеленоватая! Да нет, совершенно зелёная!
Флип пристально и строго поглядел на Вэнк. Только что упоминали о временах, когда она ещё не появилась на свет, хотя уже жила… Впрочем, сам он не хранил в памяти никаких воспоминаний о днях, когда они вместе играли в песочек. Видение тех далёких лет – белый муслин и загорелое тельце – как-то растворилось. Но когда в сердце своём он произносил: «Вэнк», вместе с обликом подруги ему виделся горячий песок под коленями и жёлтая струйка, сыплющаяся сквозь сжатые пальцы… Перванш скользнула взглядом по лицу Флипа. Как и у него, её сине-сиреневые глаза казались безмятежно спокойными.
– Вэнк, не пора ли тебе ложиться?
– Пожалуйста, мама, чуть попозже. Мне надо управиться с последней оборкой для платьица Лизетты. Старое она совсем истрепала.
Она сказала это мягко, а потом одним движением головы отодвинула далеко от себя и от Флипа блёклые тени членов семейного кружка, чьей реальности оба они почти не признавали. Флип, нарисовав турбину, авиационный пропеллер, механизм сепаратора, украсил лопасти винта большими радужными глазами, такими же, как на крыльях «павлиньего глаза», и добавил несколько тоненьких лапок и длинные усики. Затем начертал заглавное «V» и так его преобразил, помогая себе синим карандашом, что получилось ярко-голубое око, окаймлённое длинными ресницами – глаз Вэнк.
– Взгляни-ка, Вэнк.
Она склонилась над бумагой, положила на лист свою ладонь дикарки, казалось, выточенную из тёмного твёрдого дерева, и улыбнулась:
– Какой же ты несерьёзный.
– Что он ещё натворил? – крикнул господин Одбер.
Оба разом повернулись на его голос с видом несколько высокомерного удивления.
– Да ничего особенного, папа, – успокоил его Флип. – Глупости. Снабдил турбину ножками, чтобы увеличить её скорость.
– Ох, когда же ты достигнешь зрелости? Я тогда прибью распятие над нашим камином! Ему всё ещё не шестнадцать, а каких-нибудь шесть лет.
Перванш и Флип вежливо улыбнулись и вновь позабыли о присутствии расплывчатых существ, игравших в карты или вышивавших рядом с ними. Смутно, словно заглушённые морским прибоем, до их слуха донеслись несколько шуточек касательно «призвания» Флипа, которому прочили что-нибудь по механической части и электронике, и замужества Вэнк – темы, давно ставшие привычными. Вокруг большого стола раздались громкие раскаты смеха, потому что кто-то предложил обвенчать Флипа и Вэнк…
– Ох, ох! Да это равносильно браку сестры и родного брата! Они слишком хорошо знают друг друга!
– Любовь, госпожа Ферре, требует чего-то неожиданного, внезапного, как удар молнии!
– «В любви – дух вольности цыганской…»
– Марта! Перестань петь! Смотри, сглазишь хорошую погоду!
…Обручить его и Вэнк? Флип улыбнулся, преисполнившись ко всем им снисходительной жалостью. Обручение… Для чего? Вэнк и так принадлежит ему, как он – ей. Между собой они давно уже исчерпали эту тему, благоразумно порешив, что официальное обручение в видах на отдалённое будущее лишь замутит их давнюю страсть. Они заранее предвидели всё: бесконечные игривые намёки, нестерпимое подсмеивание, подозрительные взгляды…
…Вместе они захлопнули слуховое окошко в незримом убежище своей любви, через которое иногда общались с повседневной жизнью. Каждый из них проникся завистью к младенческому неведению родственников, к их беззаботной смешливости, спокойной вере в грядущее благоденствие. «Как они веселы!»– сказал себе Флип. поискав на челе поседевшего отца отсвет небесного огня или по крайней мере печать ожога, но ничего подобного не заметив. «Ах! – заключил он с чувством превосходства. – Бедняга так никогда и не любил…»
Перванш силилась представить себе то время, когда её мать могла бы страдать от молчаливого любовного недуга, хотела вообразить её юной. Но увидела лишь преждевременную седину, пенсне в золотой оправе и худобу, которая придавала столько достоинства осанке госпожи Ферре…
Девушка покраснела, обвинила одну себя в постыдной страсти, в слабости тела и духа, и покинула пошлый мир Теней, чтобы соединиться с Флипом на том пути, где их следы укрыты от посторонних глаз, где сами они могут погибнуть, ибо их добыча неподъёмна, чрезмерна в своей роскоши и завоёвана задолго до срока.
VIII
На повороте узкой дорожки Флип соскочил с седла, отбросив велосипед в одну сторону, а собственное тело – в другую, на припудренную мелом траву обочины.
«Уф! Довольно! Хватит! Помираю! И зачем только я вызвался отвезти это послание?»
Одиннадцать километров от их обиталища до Сен-Мало не показались ему слишком уж утомительными. Ветерок с моря подталкивал его в спину, а во время двух длинных спусков грудь под распахнутой рубашкой приятно холодило. Но обратный путь внушил ему отвращение к лету, велосипеду и собственной предупредительности. К концу августа на землю пал июльский зной. Теперь Флип ногами вперёд скользнул в жёлтую траву и облизал с губ тонкую пыль безлюдных дорог. От усталости под глазами набухли тёмные мешки, словно он только что боксировал, на его голых бронзовых ногах, торчавших из коротких спортивных штанов, белые шрамы, чёрные багровые ссадины запечатлели летопись каникулярных вылазок к морю и лазанья по скалам.
«Зря я не захватил с собой Вэнк, – усмехнулся он. – Вот было бы забавно!» Но голос другого Флипа, Флипа, влюблённого в Вэнк, затворившегося в своём не по летам стойком влечении, будто осиротевший принц-наследник – в слишком просторном дворце своих предков, ответил первому злобному голосу: «Стоило бы ей только пожаловаться, и ты на себе донёс бы её до самого дома…»
«Это далеко не очевидно», – возразил злой Флип. А Флип влюблённый на этот раз не осмелился его оспорить…
Он лежал у стены, над которой возвышались голубые сосны и матовые осины. Флип знал все закоулки побережья ещё с тех пор, как научился ходить на двух ногах и ездить на двух колёсах. «Это вилла «Кер-Анна». Слышно, как движок работает, ток подаёт. Интересно, кто её снял на это лето?»
Мотор за стеной задыхался, как собака, которую мучит жажда, а кроны серебристых осин шептались под ветром, будто вода маленького ручейка. Умиротворённый, Флип смежил веки.
– Сдаётся, вы заработали стакан оранжада, господин Флип, – произнёс спокойный голос.
Открыв глаза, Флип в перевёрнутом виде, словно отражённое в воде, увидел склонённое над ним женское лицо. Это опрокинутое лицо имело чуть полноватый подбородок, тронутые яркой помадой губы, нос с хорошо видными при взгляде снизу тонкими нервно прижатыми ноздрями и два тёмных глаза, казавшиеся при таком ракурсе двумя узкими полумесяцами. Всё лицо цвета светлого янтаря улыбалось с отнюдь не дружелюбной непринуждённостью. Флип узнал Даму в белом, застрявшую в своём автомобиле на песчаной дороге, ту, что обратилась тогда к нему, назвав сначала «малышом», а потом «мсье»… Он вскочил на ноги и церемонно поздоровался. Скрестив на белом платье обнажённые по локоть руки, она разглядывала его в упор с головы до ног, как и при их первой встрече, а затем совершенно серьёзным тоном осведомилась:
– Мсье, вы не носите никакой или почти никакой одежды в силу данного обета или по природной склонности?
Кровь бросилась ему в лицо, уши покраснели, в висках застучало.
– Вовсе нет, мадам! – чуть не плача, выкрикнул он. – Просто мне нужно было отвезти на телеграф депешу к одному из клиентов отца. А никого другого в доме не оказалось: не посылать же Вэнк или Лизетту в такую жару!
– Не надо закатывать мне сцен, – произнесла Дама в белом. – Я чрезвычайно впечатлительна. Могу разрыдаться из-за пустяка.
Её слова и бесстрастный взгляд с мерцающей потаённой усмешкой больно задели Флипа. Он схватился за руль велосипеда, резко поставил его на колёса, словно потянул за руку оступившегося ребёнка, и уже собрался вскочить в седло.
– Выпейте же стакан оранжада, господин Флип. Уверяю, это не помешает.
Он услышал скрип отворившейся калитки в углу ограды; попытка бегства привела его прямо к открытой двери, аллее, обрамлённой предсмертно-багровыми розами, и к Даме в белом.
– Меня зовут госпожа Дальре, – представилась она.
– Флип Одбер, – поспешил откликнуться Флип. Она рассеянно кивнула и произнесла «А-а…», означавшее: «Пусть так, мне всё едино».
Она сопроводила его до порога, безучастно подставляя жаркому солнцу туго приглаженные блестящие волосы. У него вдруг разболелась голова, словно после солнечного удара. Идя рядом с госпожой Дальре, он впал в полуобморочное состояние и ждал, что вот-вот лишится чувств и это освободит его от надобности думать, выбирать и повиноваться.
– Тотот, оранжаду! – крикнула госпожа Дальре. Флип вздрогнул и очнулся. «Вот стена, – сказал он себе. – Она невысока. Сейчас перемахну через неё и…» Он, однако, не докончил: «…и буду спасён». Вступая на ослепительно белое крыльцо и уставясь на столь же белое платье шедшей впереди дамы, он призывал на помощь всю дерзость, какую имел в свои шестнадцать лет: «А что тут такого? Не съест же она меня!.. Если ей уж так хочется пустить в дело свой оранжад!..»
Он вошёл и неуверенно остановился в совершенно тёмной, укрытой от мух и солнечных лучей комнате. Там было прохладно: жалюзи и занавеси на окнах не пропускали дневной жар. У него даже перехватило дыхание. Его колено упёрлось во что-то мягкое, он оступился и рухнул на какую-то подушку, услышал непонятно откуда сдавленный демонический смешок и чуть не заплакал от тоскливой беспомощности. Его руки коснулся ледяной стакан, и голос госпожи Дальре произнёс:
– Не пейте залпом. Тотот, ты сошла с ума, зачем было класть лёд: в погребе и так холодно.
Белая рука опустила три пальца в стакан и тотчас их вынула. Блеснул драгоценный камень, искорки от него заиграли в кубике льда, зажатом этими тремя пальцами. У Флипа сдавило горло. Зажмурившись, он сделал два маленьких глотка, даже не почувствовав кисловатого вкуса апельсина, но когда вновь открыл глаза, то, уже освоившись с освещением, различил красно-белые штофные обои, чёрные с матовым золотистым рисунком занавеси. Женщина с позвякивавшим подносом в руках (её он не успел рассмотреть) исчезла. Большой красно-синий ара на жёрдочке с треском раскрываемого веера распустил крыло и взмахнул им. обнажив густо-розовое подкрылье…
– Он красивый, – хрипло проговорил Флип.
– И ещё его украшает то, что он не говорит, – заметила госпожа Дальре.
Она села в некотором отдалении от него; их разделяла вертикальная струйка дыма из чаши, где тлели какие-то благовония, распространяя вокруг запах смолы и герани.
Флип положил ногу на ногу, и снова Дама в белом усмехнулась его голым коленкам, явно чтобы усилить ощущение кошмара, добровольного заключения, двумысленнего похищения, лишившее юношу последних остатков хладнокровия.
– Ваши родители приезжают на побережье каждый год, не так ли? – мягким и по-мужски бесцветным голосом спросила госпожа Дальре.
– Да, – устало выдохнул он.
– Впрочем, здесь очаровательная местность, к тому же для меня она нова. Пейзажи срединной Бретани хотя и не слишком характерны, но действуют весьма успокоительно, а цвет моря вообще ни с чем не сравним.
Флип не отвечал. Он пытался собрать остатки своего здравомыслия, чтобы осознать меру собственной подавленности. Казалось, он сейчас услышит, как медленно, тихо, мерно прольются на ковёр последние капли крови из опустевшего сердца.
– Вам оно нравится?
– Что? – вздрогнув, переспросил он.
– Побережье у Канкаля. Вам нравится?
– Да…
– Господин Флип, может, вы нездоровы? Нет? Отлично. Впрочем, я превосходная сестра-сиделка… Но вы тысячу раз правы: в подобную жару лучше молчать, чем говорить. Так помолчим же.
– Я этого не говорил.
С того мгновения, как они вошли в затемнённую комнату, она не сделала ни единого жеста, не промолвила ни единого слова, которое не выглядело бы совершенно будничным. Меж тем самый звук её голоса необъяснимым образом причинял Флипу какую-то острую боль. Однако и угрозу обоюдного молчания он встретил со страхом и смятением. Его уход казался жалким актом отчаяния. Он чуть не разбил свой стакан о призрачную тень столика, выдавил ив себя несколько слов, каковых сам не расслышал, встал, пошёл, словно по глубокой воде, к двери, сквозь волны и невидимые преграды выбрался на свет, задыхаясь, ловя ртом воздух, и вполголоса простонал:

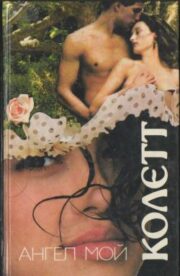
"Неспелый колос" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неспелый колос". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неспелый колос" друзьям в соцсетях.