Она произнесла это с мягкой проникновенностью ясновидящей, и он не рискнул попросить объяснений, не посмел даже обрадоваться этой мягкости. Теперь, видимо, и Вэнк мысленно сделала шаг назад, поскольку неожиданно добавила:
– Помнишь, какие сцены закатывали: ты – мне, а я – тебе из-за того, что нам мыкаться целых четыре-пять лет перед замужеством? Это было всего три недели назад… Ах, мой бедный Флип! Вот я сейчас думаю: хорошо бы вернуться назад, в детство…
Он ожидал, что она объяснит или хотя бы намекнёт, что означало это проклятое «сейчас», повисшее перед ним в прозрачном синем воздухе августовской ночи. Но Вэнк, видимо, переняв его науку, вооружилась молчанием. Он решился настаивать:
– Так ты на меня не сердишься? И завтра мы будем… мы снова будем Вэнк и Флипом, как раньше? И уже – навсегда?
– Навсегда, если тебе угодно… Пойдём, Флип. Надо возвращаться. Стало прохладно.
Это «навсегда» у неё прозвучало совсем не так, как у него. Но он удовольствовался и такой неполной клятвой, и её холодной ладошкой, которую она на краткий миг позволила ему сжать в своей руке. Ибо в это самое мгновение скрежет цепи и звон ведра о край колодца, скрип колец задвигаемой занавески в чьём-то открытом окне – все эти звуки, свидетельствующие о грядущем сне и покое, отметили час, которого он так ждал накануне, чтобы отворить двери родительского дома и, таясь, устремиться в путь… Ах, приглушённый красноватый свет незнакомой спальни… Ах, тёмное счастье, смерть, одолевающая постепенно, жизнь, к которой возвращаешься, как бы взмывая ввысь и медленно маша крылом…
И, словно он только что получил от Вэнк отпущение грехов, пусть прозвучавшее довольно двусмысленно, но данное таким искренним тоном и в столь скупых словах, Флип внезапно как истинный мужчина оценил тот дар, которым наделила его прекрасная и властная дьяволица.
XIV
– Вы уже решили, когда возвращаетесь в Париж? – спросила госпожа Дальре.
– Как всегда, двадцать пятого сентября, – ответил Флип. – Иногда – это зависит от того, какое число выпадает на воскресенье, – наш отъезд приходится на двадцать третье, двадцать четвёртое или двадцать шестое. Но дата не сдвигается более чем на два дня…
– Ну да… В общем, вы уезжаете через полмесяца. Через две недели в этот час…
Флип оторвал взгляд от моря, плоского и беловатого у песчаной косы, а вдали, под низкими облаками – цвета дельфиньей спины; удивлённый, он повернулся к госпоже Дальре. Задрапированная во что-то белое и просторное, вроде нарядов таитянских женщин, тщательно причёсанная, с напудренным серьёзным лицом, она курила, и всё в её облике свидетельствовало, что красивый, смуглый, как и она, молодой человек, сидевший подле, не мог быть никем иным, кроме её младшего брата.
– Итак, через две недели в этот час вы будете… где?
– Я буду… в Булонском лесу на озере или неподалёку, на теннисном корте с… с друзьями.
Он покраснел, так как имя Вэнк чуть не сорвалось с его губ, и госпожа Дальре улыбнулась той улыбкой, что придавала ей сходство с красивым юношей. Флип снова отвернулся к морю, пробуя скрыть от неё то выражение разгневанного божка, что появилось на его лице. Крепкая покрытая лёгким пушком рука легла на его руку. Он не оторвал взгляда от белёсой воды, но рот его дрогнул, разжался в гримасе блаженного отчаяния, яркая чернота его глаз и блеск белков погасли прежде, чем он смежил веки…
– Не надо грустить, – мягко произнесла госпожа Дальре.
– Я не грущу, – с живостью откликнулся Флип. – Вы просто не можете понять.
Она наклонила голову, и на гладких волосах заиграли блики света.
– Вот именно. Я не могу понять. По крайней мере, не всё.
Не веря ушам, Флип с восторгом воззрился на ту, что освободила его из-под власти тягостной тайны.
Разве ещё не раздавался в её маленьких розовых ушках тот низкий придушенный крик, похожий на предсмертный хрип человека, которому всадили нож в горло?.. Эти руки с сильными и притом совершенно неприметными глазу мышцами перенесли его, лёгкого, почти бесчувственного, из этого мира в иной; этот скупой на речи рот приблизился к его губам, передал им одно-единственное, но всемогущее слово и что-то прошептал, почти неразличимое, как песнь, слабым эхом донёсшуюся из тех глубин, где сама жизнь – лишь жестокая конвульсия естества… Она знала всё…
– Не всё, – повторила она, словно её вынудило ответить молчание Флипа. – Но ведь вам не нравится, когда я задаю вопросы. А я иногда весьма любопытна.
«Да, это как молния: один лишь миг, как зигзаг, прочерчивающий небо, – и ты готов отдать, поверить ей даже то, что и при свете дня остаётся в тени…»
– …и мне хотелось бы узнать, сможете ли вы вот так, легко, со мной расстаться.
Молодой человек потупил глаза и уставился на свои голые коленки. Свободное одеяние из расшитого узорами шёлка делало его похожим на восточного принца.
– А вы? – неловко переспросил он.
Пепел сигареты, горевшей в пальцах госпожи Дальре, упал на ковёр.
– Вопрос не обо мне. Речь идёт о Флипе Одбере, а не о Камилле Дальре.
Он поднял на неё глаза, вновь испытав удивление, как всякий раз, когда слышал это бесполое имя, почти одинаковое у мужчин и женщин: Камилла, Камилл. «Ну да, она – Камилла. Могла бы и не напоминать. Про себя я её называю "госпожа Дальре", "Дама в белом" или просто "Она"…»
Его собеседница неторопливо курила и глядела на море. Она молода?
Конечно же: лет тридцать, по крайности тридцать два. Непроницаема, подобно всем уравновешенным натурам, у которых наивысшие проявления чувств не выходят за рамки умеренной иронии, улыбки и торжественной серьёзности. Не отрывая взгляда от морской шири, где зрела гроза, она снова положила руку на его локоть и чуть сжала пальцы, притом чтобы сделать приятное себе, а не ему, повинуясь эгоистическому капризу. Маленькая, но сильная рука заставила его заговорить: он выдавил из себя признание, как пробитый персик, начинающий истекать соком.
– Ну да, конечно, мне будет грустно. Но надеюсь, что я не стану слишком несчастным.
– Неужто? И что позволяет вам на это надеяться?
Он слабо улыбнулся ей. У него появилось то выражение трогательной неловкости, какое втайне очень ей нравилось.
– Дело в том, – пробормотал он, – мне показалось… что вы найдёте способ… Ведь вы найдёте какой-нибудь выход?
Она приподняла одно плечо, и тонкие, полумесяцем, брови взметнулись вверх. Ей пришлось чуть-чуть потрудиться, прежде чем её улыбка вновь стала привычно спокойной и чуть презрительной.
– Способ… – повторила она. – То есть вы разумеете, что я, если мне будет угодно, приглашу вас к себе, а вам останется позаботиться лишь о том, чтобы добраться до моего жилища в тот час, когда ваши школьные дела и, гм, домашние обязанности вам это позволят?
Хотя тон вопроса немало удивил Флипа, он выдержал её взгляд и ответил:
– Да. Да и как же иначе? Неужели вы станете меня в этом упрекать? Увы, я – не маленький бродяга, принадлежащий лишь самому себе. И мне только шестнадцать с половиной.
Краска медленно залила её лицо.
– Я ни в чём вас не упрекаю. Но разве трудно представить, что женщине – конечно, не такой, как я, но всё же, – что женщине может показаться весьма неприятным соображение, что вы желаете от неё только одного: лишь часа, который она проведёт наедине с вами. И всего-то? Только и всего?
Флип слушал её с почтительным вниманием школьника, а его широко распахнутые глаза не отрывались от её суровых губ, от глаз, ревниво, хотя и без явно выраженного желания или упрёка, следивших за ним.
– Нет, – без колебаний возразил он. – Не могу себе представить, чтобы это вас так задело. «Только и всего?» Ах… да, только и всего…
Он умолк, снова побледнев, сражённый тем же блаженным зачарованным удивлением, что и ранее: при взгляде на него, на то почтение к её особе, которое она сама сумела ему внушить, Камилле Дальре чуть не изменило обычное высокомерное спокойствие. Будто ослеплённый, Флип уронил голову на грудь, и этот жест полного подчинения на миг опьянил победительницу.
– Вы любите меня? – тихо спросила она. Вздрогнув, он в ужасе уставился на неё.
– Почему… почему вы меня об этом спросили?
К ней вернулось самообладание, а вместе с ним и всегдашняя, несколько окрашенная сомнением усмешка.
– Да так, Флип. Захотелось немного поиграть… Его глаза всё ещё вопрошали её, укоряя за невоздержанность в словах.
«Взрослый мужчина не замедлил бы сказать «да», – подумалось ей. – Но этот младенец, если я потребую ответа, примется кричать, заливаясь слезами и осыпая поцелуями, что не любит. Надо ли настаивать? Ведь тогда придётся прогнать его или же из его уст, содрогаясь, узнать, каковы истинные границы моего влияния…»
Там, где сердце, у неё что-то болезненно сжалось, но она с безмятежным видом встала и пошла к распахнутой застеклённой двери веранды, словно забыв о существовании Флипа. Запах маленьких голубых мидий, четыре часа назад собранных под скалой и ещё хранящих солоноватый привкус морской воды, смешался с густым ароматом бузинного отвара, что исходил от переспелой бирючины.
Прислонившись к косяку, она стояла, придав себе рассеянный вид, но спиной ощущая присутствие нежащегося в постели юноши; его желание неотступно преследовало её, она чувствовала на себе его вязкость.
«Он меня ждёт. И уже предвкушает наслаждение, которое я ему дам. То, чего я от него добилась, под силу первой встречной. Однако же этот маленький затурканный буржуа дуется на меня, когда я расспрашиваю о его семействе, не слишком охотно говорит о своём коллеже и замыкается в крепости целомудренного молчания при одном только упоминании Вэнк… От меня он научился лишь самому лёгкому. Он приносит с собой, складывает в уголок и каждый раз вместе с одеждой забирает назад это… эту…»
Она поймала себя на том, что ей даже не вслух трудно произнести слово «любовь», и отошла в глубь комнаты. Флип нетерпеливо дожидался её приближения. Она опустила руки ему на плечи и чуть более резким, чем ей бы хотелось, жестом потянула его к себе, так что темноволосая голова перекатилась на её обнаженную руку. И с этой ношей она устремилась в тесное тёмное царство, где её тщеславие наконец могло утешиться, принимая жалобный стон за крик о помощи, и где попрошайки её пошиба упиваются иллюзией собственной расточительности.
XV
Мельчайший дождик за несколько ночных часов покрыл лёгкой испариной листки шалфея, заставил по-новому заблестеть бирючину и застывшие листья магнолии, не разорвав, унизал жемчужными блёстками туманную дымку вокруг гнёзд гусениц в сосновой хвое, где шли приготовления к зимним холодам. Ветер уже не теребил морские волны, а негромко искусительно насвистывал в щелях под дверьми, напоминая об удовольствиях минувшего лета и чуть слышно нашёптывая о печёных каштанах и поспевших яблоках… Поднявшись с постели и выглянув в окно, Флип поддел под свою полотняную куртку тёмно-синий свитер и позавтракал в одиночестве, что с ним стало случаться с тех пор, как он начал позднее ложиться и сон его уже не был таким же незамутнённо спокойным, как раньше. Поев, он побежал разыскивать Вэнк – так ночной путник ищет огонёк жилья. Но её не было ни в гостиной, где от осенней влаги снова запахло промасленным деревом и пенькой, ни на террасе. Воздух, пропитанный тончайшей водяной пылью, не смачивая холодил кожу. Жёлтый листок осины, сорвавшись с ветки, какое-то время с подчёркнутой грацией порхал перед его лицом и вдруг, отяжелев от невидимых капель, накренился набок и грузно упал к его ногам. Он напряг слух и уловил доносящееся из кухни по-зимнему знакомое шуршание угля, который бросали в печь.
Из комнаты Лизетты послышался капризный голосок девочки: она чем-то возмущалась, потом стала всхлипывать.
– Лизетта! – окликнул её Флип. – Лизетта, не знаешь, где твоя сестра?
– Не знаю! – откликнулся этот тонкий, осипший от слёз голосок.
Внезапный порыв ветра сорвал с крыши лепесток черепицы, и тот разлетелся на мелкие кусочки у его ног. Юноша озадаченно поглядел на черепки, словно на осколки ненароком разбитого зеркала: знак судьбы, предвещавший семь лет несчастий… Он почувствовал себя маленьким мальчиком, изнемогающим от детских бед. Однако ему совершенно не хотелось прибегать к помощи той, что там, невдалеке, в доме, обсаженном соснами, по ту сторону полуострова в форме льва была бы не прочь увидеть его трусливо жмущимся к стене, жаждущим опоры в неукротимой сильной женской душе… Он обогнул дом, но и там не обнаружил ни белокурой головки своей подруги, ни её голубого платья в тон цветкам чертополоха или белого платья из хлопка, пористого, словно срезанная ножка гриба. Длинные ноги с точёными коленками не поспешили ему навстречу. Синие очи с лиловым отливом не распахнулись перед ним, утоляя жажду его собственных глаз…

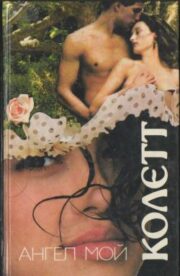
"Неспелый колос" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неспелый колос". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неспелый колос" друзьям в соцсетях.