Все это, без сомнения, имело самое прямое отношение к тому, как складывалось мое детство, которое прошло в богатом жилом доме, стоявшем особняком на Пятой авеню. Я росла в окружении бесчисленных лифтеров и вахтеров, чьи лица я научилась не замечать на улице, когда эти люди, переодетые в цивильное платье, выпадали из служебного контекста. Я рассматривала их исключительно в качестве прислуги для богатых – для таких семей, как наша, – и смущалась, когда кто-то из них вдруг приветствовал меня, встретив на Медисон авеню. Между тем в отличие от других квартировладельцев мне приходилось проводить в их обществе довольно много времени, потому что отец имел обыкновение не пускать меня в квартиру, если я возвращалась домой позже указанного часа. Пристыженная и оскорбленная, я сидела в фойе на потертом кожаном диванчике около ночного вахтера. Разве не ужасно провести всю ночь на этом диванчике, а под утро смотреть, как над мрачными зданиями Центрального парка начинает заниматься заря? Может быть, мне следовало бы разъяснить ночному вахтеру по имени Отис, что подобное ночное времяпрепровождение – как нельзя более естественная вещь для молоденькой девушки моего сословия?
Может быть, мне нужно было разобъяснить ему, что это для него замечательный повод заняться социологическими наблюдениями на предмет того, как богатеи третируют своих отпрысков?.. Между тем Отис смотрел, как я сижу, забившись в угол дивана, и на его лице прочитывалась боль за меня. Он скорбно качал головой и начинал чистить апельсин, который извлекал из пакета, приготовленного для него миссис Отис. Иногда он по-братски делился со мной апельсином или даже пирогом и занимал меня любезной болтовней до тех пор, пока не звонил родитель и не распоряжался пропустить меня в квартиру. Мимо меня проходили жильцы, спускавшиеся поутру выгуливать собак. Проходил почтальон с громадной кожаной сумкой через плечо – он тоже был свидетелем того, как я униженно тоскую в фойе. Приходил на дежурство утренний вахтер и начинал судачить о том о сем с коллегами. Иногда я впадала в своего рода отрешенную созерцательность, размышляя, что безнравственнее в такой непомерной родительской строгости: отцовское пренебрежительное отношение к вахтеру, которого он считал просто низшей формой жизни, или же его бессердечие, когда он не пускал домой собственную дочку, наказывая ее за десять минут опоздания после школьной вечеринки.
Когда я ждала возвращения Эрика той ночью в Мюнхене, я пришла к заключению, что, наказывая меня, родитель наказывал и мучил самого себя. Чтобы понять эту простую вещь, мне потребовалось сделаться взрослой и стать миссис Орнстайн. Однако как все это объяснить Эрику – человеку, который купился на фальшивый фасад моего богатенького и презентабельного семейства, – разве он может понять, как муторно и пакостно на душе у этой позолоченной девушки, которую он взял в жены?.. Подобные размышления навели меня на мысль о возможной нерасторжимости нашего союза. Перед моими глазами даже проплыло видение надгробной плиты, на которой были отчеканены слова: «Здесь покоится Маргарита Орнстайн, возлюбленная супруга Эрика Орнстайна». Чуть позже мне подумалось, что это был бы не просто Конец, а своего рода последняя запись в книге моего заимодавца. Ну уж нет! В этой жизни мне хотелось еще кое-чего, кроме почетного звания «возлюбленной супруги».
Мало-помалу дело начинало проясняться. Я всегда вела себя как затюканный ребенок, который старается оправдать родителей и всячески отрицает возможность того, что именно они льют деготь в наш мед. Все мои размолвки с отцом я принимала как должное, отыскивая мотивы, объясняющие его поведение, и задним числом оправдывая его, – просто другого выбора у меня не было. Что касается матери, то она, с ее ледяной рассудительностью в отношение всего, что преподносила жизнь, никогда и не думала скрывать свое безразличие ко мне. Бедный, бедный Эрик Орнстайн. Вот это я и скажу ему, как только он вернется в отель. Впрочем, ему этого не понять.
– Бедняжка Эрик!
На его лице отразилось смущение, рука замерла на дверной ручке.
– Но ведь это и не удивительно, правда? – мягко продолжала я.
– Удивительных вещей вообще не так уж много на свете, – наконец пробормотал он. И, помедлив, добавил многозначительно: – Знаешь, Мэгги, то, что ты отказываешься быть со мной во время свадебного путешествия, не что иное как начало недопустимого с твоей стороны поведения…
Хотя Эрик так или иначе покончил с осмотром мемориальных достопримечательностей, связанных с кошмарами прошлого, я все еще была поглощена кошмарными воспоминаниями о своем детстве. В конце концов мы оказались в лондонском «Коннот-отеле», и первое впечатление об этом городе никогда не изгладится у меня из памяти. Я как будто попала в закрытый мужской клуб, причем незваным гостем. Я проникла в запретную зону, где висел густой сигарный смог и бил в нос крепкий перегар бренди, где жизнь Эрика потекла в соответствии с финансовыми газетными сводками, а я оказалась из нее выключена. Эрик прибыл в Лондон, чтобы повидать нужных ему людей, занятых бизнесом, и более чем прозрачно дал мне понять, что в течение дня мне лучше заняться какими-нибудь своими делами. Во время одного из моих бесцельных блужданий по городу я забрела в «Шотландский Дом», чтобы присмотреть себе юбку, и там повстречала Куинси Рейнольдс.
Она была моя абсолютная противоположность. У нее было все, чего не было у меня. Миниатюрная фигурка, рыжие волосы, веснушки и нежный голосок. Несмотря на внешность, она была стойким оловянным солдатиком и придерживалась того мнения, что человек может выжить в любом аду. Куинси похоронила ребенка, который был неизлечимо болен уже в момент рождения. Именно Куинси приняла решение отключить систему жизнеобеспечения ребенка, когда он лежал в глубокой коме, и его мозг был мертв по меньшей мере двадцать недель. Но и это было еще не все, что довелось испытать Куинси. В тот самый момент, когда она занималась больным ребенком, муж известил ее, что уходит к какой-то женщине, с которой познакомился в самолете.
Куинси рассматривала жизнь как бесконечную полосу препятствий и ухитрилась – да, ухитрилась – сделаться одним из самых удачливых телевизионных агентов. Она вела дела на пару со своим вторым мужем Дэном Перри, весьма известным специалистом по бухгалтерскому учету, который к тому же был достаточно умен, чтобы понять, что горе заставляет человека иначе взглянуть на окружающий мир. Он понимал, что Куинси нуждается в успехе более, чем в чем-нибудь другом. На двери их офиса была вывешена табличка «Рейнольдс и Перри». Однажды кто-то вывел под ней губной помадой надпись: «вместе до гроба». Ни Куинси, ни Дэн даже не сделали попытки ее стереть.
Человек, считала Куинси, может пережить что угодно, если только не потерял чувства юмора. Это самое чувство и объединило нас, когда мы нашли друг друга в дебрях мохеровых свитеров и кашемировых шалей. Я бродила между прилавками, заваленных всякой всячиной, и была погружена в мысли о моем замужестве. Эрик уже отчаялся каким-либо образом возбудить во мне энтузиазм и вознаградить за то, что мне приходилось делить с ним супружеское ложе. Когда я думала о том, что наше супружество безнадежно прокисло, по моим щекам текли слезы. Эрик даже перестал интересоваться моим мнением о технике секса. До него дошло, что я не только не пылаю к нему страстью, но в лучшем случае стараюсь отнестись к этому стоически. Куинси заметила меня сразу.
– Как бы вам не схватить конъюнктивит, – неожиданно сказала она, глядя на мое мокрое от слез лицо.
Когда я взглянула на нее в первый раз, то заметила обручальное кольцо и испытала что-то вроде облегчения: блеск золота, символизирующий узы Гименея, говорил о том, что у нее есть муж, а значит, как женщина она самореализовалась.
– Слезами горю не поможешь, – добавила Куинси, видя, что я храню молчание.
– Откуда вам это известно?
– Мне известно также и то, что ничто не может заставить женщину плакать, когда ей удалось отыскать лавочку, где любой кашемир продается за полцены.
Она улыбнулась.
– Ну и как он вам? – спросила я.
– Вообще-то, довольно тусклый, – сказала она, немного поколебавшись. – Я бы рекомендовала вам посмотреть здесь шерстяные ткани.
Мы обе рассмеялись. Потом занялись шерстяными тканями, потом рассматривали мохеровые кофточки. И наконец направились к выходу, чтобы где-нибудь отметить знакомство. Отыскав маленькое кафе, мы устроились поудобнее и начали наш разговор.
– Что вы делаете в Лондоне? – поинтересовалась она.
– Я здесь в свадебном путешествии. Мы только что вернулись из… – начала я и умолкла, не решаясь поведать ей, какого рода развлекательную программу запланировал Эрик, чтобы достойно провести медовый месяц.
– Вы плакали из-за него? А может быть, потому что все это для вас так ново?
– Пожалуй, я плакала оттого, что оказалась к этому совершенно не готова. Мне кажется, что в моей жизни уже больше ничего не будет… кроме надписи на надгробной плите…
– Вы хотели сказать – на стене?
– Нет, именно на надгробье.
Кажется, Куинси поняла меня. По крайней мере, она больше не спрашивала, что я имела в виду.
– А я в Лондоне сопровождаю моего клиента, – сказала она, помешивая соломинкой коктейль. – Я агент на телевидении, а мой клиент занят съемками документального фильма о Виндзорском замке. Все говорили нам, что такие съемки вещь совершенно невозможная. Никто еще не смог получить на это разрешения – как-никак королевская резиденция.
Мне стало любопытно. Еще никогда я не встречала женщину, которая, кроме того, что носила обручальное кольцо, занималась собственным бизнесом.
– Ну и пришлось мне натерпеться! Ничего подобного у меня еще не было, – продолжала она. – Когда я ухитрилась добиться разрешения у членов королевской семьи и привезла моего клиента в студию американского телевидения здесь в Лондоне, эта сволочь – исполнительный директор разразилась словесным поносом не меньше чем на час…
– Я не понимаю…
– Очень просто. Его прямо-таки скрючило от зависти, что именно мне удалось добиться этого разрешения. Ведь он сам безрезультатно выпрашивал его два года.
– Но почему он так взъелся?
– Да потому, – нетерпеливо сказала она, – что женщинам в этом мире отведено лишь получать оплеухи. А на телевидении – тем более… Ну а вы что поделываете?
– Я замужем.
– Ну об этом нам уже известно, – усмехнулась она. – Вспомните, как я вытащила вас зареванную из кашемирового изобилия. В данном случае я интересуюсь вашей работой.
– У меня нет работы.
– Ну, это просто глупо. Замужество – вещь недостаточная во всех отношениях. Особенно если вы не очень счастливы. Обратите внимание, прошло только две недели, как вы замужем, а вы уже удивлены тем, что происходит.
– А если бы я и не удивлялась, разве от этого что-нибудь изменилось? Разве бы мне полегчало?
– Скорее всего нет. В любом случае вам следует подумать, чем заняться. Вас что-нибудь интересует?
Сначала робко, а потом смелее я принялась объяснять, что хочу стать журналисткой, причем специализироваться на международной тематике, заниматься событиями мирового масштаба. Может быть, даже делать репортажи о войне.
Она слушала меня очень внимательно и заговорила только, когда я иссякла.
– Хотите работать для телевидения? – спросила она.
Что я могла сказать? По иронии судьбы это было то самое, о чем я только могла мечтать, но облекать свои призрачные мечты в слова, да еще говорить об этом вслух…
– Для телевидения, вы говорите, – сказала я и вспыхнула. – Конечно!
– А почему вы думаете, что сможете этим заниматься? Ведь это дело непростое.
– Не знаю, – отвечала я так, словно уже боролась за свою карьеру, хотя еще две минуты назад даже не помышляла ни о чем подобном. – Но я уверена, что, если бы кто-нибудь дал мне шанс, я бы сумела это доказать.
Куинси опять улыбнулась.
– Это довольно грубая работенка. Другой такой, пожалуй, и не сыскать. Я это знаю, потому что я этим занимаюсь. Хотя, так сказать, с другого конца.
Вот до чего мы договорились в нашей первой беседе, которая началась вполне светски. Речь шла о самом сокровенном, о чем я только когда-либо думала в своей жизни.
– Я должна идти, – сказала я. – Я обещала встретить Эрика в пять, а сейчас уже почти пять.
Я умолчала о том, что Эрик Орнстайн бывает весьма недоволен, когда ему приходится ждать. Не стоило упоминать и о том, что в качестве супружницы я одариваю его чрезвычайно скромно, а он многого и не требует, – так что мне, по крайней мере, нужно постараться не доставлять ему слишком много хлопот вне постели.
– Пусть подождет, – сказала Куинси. – Он подождет и пять минут, и даже пятнадцать. Я обещаю.
Покачав головой, я встала и бережно запрятала ее визитную карточку в свой бумажник.
– Я позвоню вам, как только вернусь в Нью-Йорк, – сказала я.

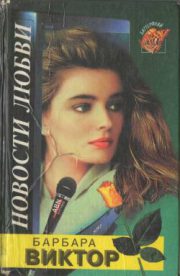
"Новости любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Новости любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Новости любви" друзьям в соцсетях.