– Нет, я просто не в силах понять, что ты в них находишь, – томно жаловалась она отцу после очередной своей неудачной попытки завязать разговор с деревенскими. – Право, они слишком близки к природе, какие-то они чересчур дикие!
Да, они были близки к природе. О нет, совсем не в том смысле, какой имела в виду моя мать: она-то считала их недоумками. Просто они были естественны и в своих делах, и в поступках, и в чувствах, и в способности говорить именно то, что думают. Они становились косноязычными и неловкими только в ее присутствии, из-за ее ледяного высокомерия. Что можно ответить даме, которая разговаривает с тобой, сидя в карете? Которая, глядя на тебя сверху вниз, со скучающим видом спрашивает, что ты нынче вечером подашь своему мужу на обед? Да, моя мать могла задать подобный вопрос, но ответ был ей совершенно неинтересен. А для обитателей нашей деревни, считавших, что о жизни Широкого Дола известно всем и каждому в Англии, тем более удивительным было, что жена их хозяина задает такой вопрос жене одного из самых ловких браконьеров (явно не подозревая об этом), а стало быть, правдивый ответ должен был бы звучать примерно так: «Одного из ваших фазанов, мэм».
И папа, и я, разумеется, все это знали. Но есть такие вещи, о которых нельзя просто рассказать, которым нельзя просто научить. Мама и Гарри жили в ином мире, где самым главным были слова. Они прочитывали массу книг, которые доставляли в дом целыми ящиками из лондонских книжных магазинов и библиотек. Мама писала длинные, полные сдержанного раздражения письма и рассылала их в разные города Англии – своим сестрам и братьям в Кембридж и в Лондон, своей тете в Бристоль. Всегда слова, слова, слова. Болтовня, сплетни, книги, игры, поэзия и даже песни, слова которых тоже сперва нужно выучить.
А в том мире, где жили мы с папой, слов требовалось очень немного. Мы оба чувствовали, как по спине бегут мурашки, если в небе во время сенокоса прогремит гром, грозящий ливнем; и тогда нам достаточно было кивнуть друг другу, и я тут же отправлялась на другой конец поля, а папа спешил на дальние поля, чтобы поторопить людей с закладыванием сена в скирды. А если в начале жатвы мы чуяли в воздухе запах дождя, то, не говоря ни слова, разворачивали своих коней и спешили объехать поля и остановить жнецов, не дать им срезать пшеницу до того, как начнется буря. Все это были очень важные вещи, но меня никто им не учил; я, казалось, знала их от рождения, потому что родилась и выросла в Широком Доле, и это действительно был мой мир.
А что касается «широкого мира», то, с моей точки зрения, он вообще вряд ли существовал. Мама, например, протягивая отцу какое-то письмо, говорила: «Как забавно…». И отец охотно кивал, соглашаясь: «Да, забавно», однако было видно, что все это ему совершенно неинтересно, если, конечно, не касается цен на пшеницу или на шерсть.
Мы, конечно, посещали некоторые, избранные, дома графства. Зимой родители принимали приглашения на званые вечера, а мама время от времени во-зила меня и Гарри в гости к детям наших соседей Хейверингов, чей дом находился милях в десяти от нас, или в Чичестер к супругам де Курси. Но в целом корни нашей жизни покоились глубоко в земле Широкого Дола, и она, эта жизнь, протекала спокойно и размеренно за стенами нашего обширного парка в почти полной изоляции от внешнего мира.
И мой отец, проведя целый день в седле на пастбищах или в поле, больше всего любил посидеть вечерком в розарии, дымя сигарой и глядя, как в жемчужного цвета небе загораются первые звезды и летучие мыши начинают, попискивая, сновать прямо над головой. Мама, взглянув на сидящего в саду отца, с коротким вздохом отворачивалась от окна и принималась снова писать свои длинные письма в Лондон или Бристоль. И в такие минуты даже я, совсем еще ребенок, понимала, как она несчастлива. Однако власть нашего отца, хозяина этого поместья, и власть самой земли Широкого Дола заставляли ее молчать.
Одиночество моей матери проявлялось не только в написании бесконечных писем, но и в том, что ни один из ее нерешительных споров с отцом никогда не увенчивался ни победой, ни поражением, и разногласия их все тянулись и тянулись, приобретая какой-то болезненный характер.
Например, ссоры из-за моей езды верхом гремели в доме в течение всех моих детских лет. Моя мать была связана общепринятым, традиционным требованием быть послушной мужу и хозяину дома, однако не имела перед собой какого бы то ни было морального образца. Так что за ее респектабельностью и преклонением перед традиционными для высшего света условностями пряталась, по сути дела, мораль сточных канав. Не имея власти в семье, она потратила свою жизнь на поиски мельчайших преимуществ в бесконечной войне за удовлетворение пусть даже мелочных, но своих собственных желаний, которые сводились к тому, чтобы непременно настоять на своем решении, пусть даже в сущей ерунде.
Бедная женщина! Она не могла распоряжаться даже теми деньгами, что были отведены на домашнее хозяйство: всем этим распоряжались дворецкий и повар, подчинявшиеся непосредственно моему отцу и получавшие жалованье из доходов поместья. Даже новые наряды матери отец оплачивал сам, вручая необходимую сумму непосредственно чичестерскому портному или модистке. Раз в квартал мать, правда, получала несколько фунтов и горсть мелочи на карманные расходы, на церковные пожертвования, на благотворительность и допускала даже такую головокружительную расточительность, как покупка букета цветов или коробки засахаренных фруктов. Но даже и эта крошечная сумма то и дело зависела от ее поведения. Так, однажды после какого-то мимолетного, но неприятного разговора с отцом – это случилось вскоре после моего рождения – даже эту жалкую сумму на карманные расходы ей вдруг выдавать перестали; эта семилетней давности тайна до сих пор не давала матери покоя, и как-то раз она шепотом поведала мне об этом случае в своей извечной терпеливо-негодующей манере.
Мне это, впрочем, было совсем не интересно, так что я ее почти не слушала. Я всегда оставалась на стороне отца, нашего сквайра. Я была его любимицей и уже достаточно хорошо понимала, что мамино возмущение и ее предательские, произнесенные шепотом речи – это часть ее вялой войны с отцом, такая же, как ее вечное сопротивление моим поездкам верхом. Мама всегда мечтала о такой семейной жизни, какую описывали в толстых ежеквартальных журналах с картинками. В этом стремлении крылась и тайная причина ее ненависти к бескомпромиссности моего отца, к его неприрученной, дикой веселости, к его привычке говорить слишком громко и сквернословить по любому поводу. Именно поэтому она упивалась тихим очарованием светловолосого Гарри, ее «золотого мальчика». Именно поэтому она была готова на что угодно, лишь бы снять меня с седла и вернуть в гостиную, где только и пристало находиться всем юным особам вне зависимости от их талантов и склонностей.
– Почему бы тебе сегодня не остаться дома, Беатрис? – спросила мама как-то утром за завтраком своим ласково-плаксивым голосом. Отец уже поел и ушел, и мама старалась не смотреть в сторону его тарелки, на которой красовалась огромная мозговая кость, самым вульгарным образом дочиста обглоданная, и россыпи крошек на скатерти.
– Я лучше с папочкой поеду, – буркнула я невнятно, потому что и у меня рот был самым вульгарным образом набит вкусным хрустящим домашним хлебом и ветчиной.
– Мне известно о ваших планах, – резким тоном сказала мать. – Но я прошу тебя: сегодня останься дома. Останься дома со мной. После завтрака я собиралась нарезать в саду цветов, а ты могла бы помочь мне и красиво расставить их в наших голубых вазах. Ну а днем можно было бы поехать покататься. Например, навестить Хейверингов. Тебе ведь наверняка было бы приятно поболтать с Селией?
– Извините меня, – сказала я с уверенностью избалованного семилетнего ребенка, кладя конец этим увещеваниям, – но я уже пообещала папе проверить, как там наши овцы на верхних лугах, и на это у меня уйдет целый день. Так что я прямо сейчас отправлюсь на западные склоны и домой приеду, только чтобы перекусить, а потом мне еще нужно будет навестить восточные склоны, так что до чая я точно не вернусь.
Мать поджала губы и уставилась в стол, и я, наверное, не сумела заметить закипавшее в ней раздражение, так что для меня было полной неожиданностью, когда она вдруг взорвалась.
– Беатрис, я просто не могу понять, что с тобой такое! – воскликнула она с болью и гневом. – Я без конца прошу тебя провести со мной хотя бы один день, хотя бы полдня, но у тебя каждый раз находятся какие-то отговорки, какие-то чрезвычайно важные дела! Пойми, мне это больно и неприятно; меня очень огорчает твое вечное нежелание побыть дома. Кроме того, тебе вообще не следовало бы никуда ездить одной. Твое заявление просто возмутительно – ведь сегодня я специально попросила тебя составить мне компанию!
Я тупо смотрела на нее, так и не донеся до рта вилку с куском ветчины.
– Тебя удивляет мое возмущение, Беатрис? – сердито продолжала мать. – Но в любом приличном доме такую маленькую девочку, как ты, ни в коем случае не стали бы учить ездить верхом. Ты получила такое разрешение только потому, что вы с твоим отцом оба сумасшедшие; он с ума сходит по лошадям, а ты – по этому поместью. Но я долее этого терпеть не стану! Я не допущу, чтобы мою дочь воспитывали подобным образом!
Я испугалась. Если мама действительно вздумает пойти против отца и запретит мне ежедневные поездки верхом, то это будет означать, что меня вернут к традиционным занятиям юной леди. А это, с моей точки зрения, довольно-таки жалкая судьба для кого угодно, тем более для такого человека, как я. Я же просто изведусь, если меня станут удерживать в доме во время пахоты или во время уборки урожая, когда в поле выходят целые команды жнецов. Но тут в холле раздались гулкие шаги отца, и дверь с грохотом распахнулась. Мать недовольно поморщилась – ее всегда раздражали подобные звуки, – а я тут же вскинула голову, точно охотничий пес, услышавший шум крыльев пролетевшей птицы, и увидела ясные глаза отца и его веселую улыбку.
– Что, все еще кормишься, маленький поросенок? – Его громогласный рев вновь заставил маму поморщиться. – Поздно закончишь завтрак, значит, поздно выедешь из дома и поздно примешься за работу. А ты, если помнишь, должна успеть до обеда съездить на западный склон и вернуться. Так что придется тебе поторопиться.
Я колебалась, глядя то на мать, то на отца. Мама сидела молча, потупившись, но я сразу, в одну секунду, догадалась, что она задумала. Ей удалось поставить меня в такое положение, когда мое и без того откровенное неповиновение станет абсолютным, если я сейчас встану и уеду вместе с отцом. Но если я скажу, что предпочла бы остаться дома, она сумеет оценить мою покорность и преданность. Вот только у меня не было ни малейшего желания позволить ей управлять мною с помощью подобных салонных хитростей. Я быстренько проглотила то, что еще оставалось у меня во рту, и тут же выложила отцу все мамины секреты.
– Мама говорит, что я сегодня должна остаться дома, – с невинным видом сказала я. – Что же мне делать?
Я смотрела то на одного, то на другого, всем своим видом изображая полную покорность и готовность послушно принять любое их решение, хотя в душе, разумеется, сделала ставку на отца.
– Мне нужно, чтобы сегодня Беатрис поехала на холмы, – напрямик заявил он. – А дома она может остаться и завтра. Я хочу, чтобы она именно сегодня осмотрела наши стада, поскольку нам предстоит отделить часть животных на продажу, а у меня все люди заняты, и больше туда поехать некому. Кроме того, именно суждениям Беатрис я могу в данном случае полностью доверять.
– Но юным леди не годится весь день проводить в седле. Я опасаюсь за здоровье Беатрис, – робко возразила мать.
Отец усмехнулся и воскликнул:
– Какая чушь, мэм! Да она столь же крепка и мускулиста, как скаковая лошадка! И ни разу в жизни не болела! Ни одного дня в постели не провела! Почему бы тебе прямо не сказать, чего ты, собственно, от нее хочешь?
Мать сдержалась. Чересчур прямо высказывать свои претензии она, истинная леди, сочла недопустимым.
– Такое воспитание совершенно не годится для девочки, – сказала она. – Беатрис целыми днями общается и разговаривает с какими-то грубыми мужланами! Она знакома с каждым нашим арендатором, с каждым жителем деревни. И без сопровождения ездит повсюду верхом!
Голубые глаза отца вспыхнули гневом.
– Между прочим, именно благодаря этим грубым мужланам мы имеем свой хлеб с маслом! – сказал он. – Это наши арендаторы и крестьяне оплачивают и лошадку Беатрис, и то красивое платьице, что на ней, и даже нарядные туфельки у нее на ногах. Какую утонченную и прелестную маленькую горожанку ты сумела бы из нее вырастить, будь твоя воля! Но, к счастью, моя дочь знает, где куется наше благополучие и кто здесь занимается настоящим делом.

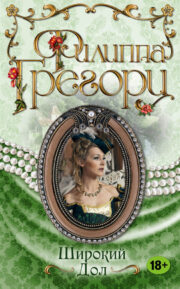
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.