Мама, которая в девичестве была именно такой «утонченной и прелестной маленькой горожанкой», этакой столичной штучкой, оторвала взгляд от столешницы и вскинула голову, опасно приблизившись к тому, чтобы нарушить традиционные представления о том, что истинные леди никогда не повышают голос, никогда не вступают в споры со своими мужьями и всегда тщательно скрывают свой гнев.
– Беатрис следовало бы воспитывать должным образом, подходящим для юной леди, – дрожащим голосом сказала она. – В будущем она будет не управляющим в твоем поместье, а юной леди. А тому, как полагается вести себя истинной леди, нужно учиться с детства.
Отец побагровел – у него даже уши стали красными, а это был верный признак крайнего гнева.
– Беатрис – истинная дочь нашего рода, рода Лейси из Широкого Дола! И что бы она ни делала, как бы она себя ни вела, здесь, в Широком Доле, это всегда будет считаться вполне подходящим. Будет ли она пересчитывать овец или даже копать канавы, она все равно останется Лейси из Широкого Дола. Здесь, на этой земле, ее нынешнее поведение – образец наивысшего качества. И ваше городское жеманство, ваше очаровательное городское сюсюканье, ваши прелестные городские манеры ей совершенно ни к чему. Они ее сущности не изменят и уж тем более не улучшат.
Мать побледнела от страха и с трудом сдерживаемого гнева.
– Прекрасно, – сказала она сквозь зубы. – Пусть будет так, как ты велишь.
Она встала из-за стола и стала спокойно собирать свои вещи – ридикюль, шаль, несколько писем, лежавших возле ее тарелки, – но я успела заметить, как дрожат ее пальцы, как прыгают губы, ибо она изо всех сил старалась удержать горькие слезы обиды и возмущения. Она молча пошла прочь, но отец задержал ее в дверях, положив руку ей на плечо, и на лице у нее было выражение ледяной неприязни, когда она подняла голову и посмотрела ему в глаза.
– Беатрис – Лейси из Широкого Дола, – снова сказал отец, пытаясь донести до нее, которой чужда была эта земля, как много значит здесь это имя. – Пока она носит фамилию Лейси, ни один ее шаг, ни один ее поступок в Широком Доле не может считаться дурным или неправильным. И вам, мэм, совершенно не нужно за нее бояться.
Мать застыла, как статуя, склонив голову в холодной и молчаливой покорности, и как только отец ее отпустил, она изящной легкой походкой истинной леди выскользнула из комнаты. Только тогда он обратил свое внимание на меня, по-прежнему безмолвно торчавшую за столом над тарелкой с недоеденным завтраком.
– Ты ведь не хочешь сегодня остаться дома, верно, Беатрис? – озабоченно спросил он.
Я тут же просияла и гордо заявила:
– Я же Лейси из Широкого Дола! Мое место на этой земле! – И отец подхватил меня на руки и сжал в медвежьих объятьях. А потом мы с ним рука об руку отправились на конюшню, чувствуя себя одержавшими справедливую победу, но я успела заметить, что мама смотрит мне вслед из окна своей гостиной. И, уже сидя верхом на своем пони и чувствуя себя в полной безопасности от ее сдерживающей руки, я направила свою лошадку к террасе, надеясь, что она, может быть, выйдет ко мне. Она действительно открыла стеклянную дверь и неторопливо вышла на террасу; ее надушенные юбки шуршали по каменным плитам; она моргала и щурилась от слишком яркого света. Я потянулась к ней и попыталась извиниться:
– Мне очень жаль, мама, что я так сильно вас огорчила! Завтра я непременно останусь дома.
Но она ко мне не подошла и к моей протянутой руке даже не прикоснулась. Она всегда боялась лошадей, и ей, похоже, неприятно было находиться так близко от пони, который от нетерпения кусал мундштук и рыл копытом гравий на дорожке. Бледные мамины глаза холодно смотрели на меня, а я, вся такая сияющая, гордо выпрямив спину, сидела перед ней на лоснящемся ухоженном пони и смотрела на нее сверху вниз.
– Я все пытаюсь, пытаюсь достучаться до тебя, Беатрис, – печально промолвила она, но в голосе ее чувствовалась настоящая и вполне естественная обида. – Мне иногда кажется, что ты просто не умеешь любить. Единственное, что тебе не безразлично, это Широкий Дол. Я думаю, ты и отца своего любишь только потому, что он – хозяин этой земли. В твоем сердце живет только Широкий Дол, а больше там, похоже, и места почти ни для чего другого не остается.
Мой пони начал нетерпеливо приплясывать, и я молча погладила его по шее. Да и что я могла сказать маме в ответ? Мне нечего было возразить ей. Скорее всего, она была совершенно права, и меня на мгновение охватило некое сентиментальное сожаление, оттого что я не могу стать такой, какой она хочет видеть меня, свою дочь.
– Мне очень жаль, мама, – повторила я, не сумев придумать ничего лучшего.
– Тебе жаль? – с презрением вырвалось у нее, и она, резко повернувшись, стремительно вернулась в гостиную, а я так и осталась стоять, крепко держась за повод моего беспокойного пони и отчего-то чувствуя себя на редкость глупой. Затем я слегка ослабила поводья, и Минни тут же ринулась вперед, громко стуча копытами по гравию, и вскоре мы оказались на поросшей травой подъездной аллее, под сенью старых буков, отбрасывавших на дорогу пятнистые полосы теней. Там, вновь почувствовав на лице теплые лучи летнего солнца, я мгновенно позабыла о матери, об этой разочарованной в жизни женщине, оставшейся сидеть в своей изящной гостиной с бледными стенами, и стала думать только о том, что впереди меня ждет полная свобода, и эта земля, и работа, которую мне непременно нужно сделать.
Но и Гарри, любимец матери, тоже ухитрился стать для нее разочарованием, хотя и совершенно по-другому. Высокие холмы, меловые долины, очаровательная речка Фенни, такая зеленая и холодная, змейкой пересекавшая наши поля и леса, – все это крайне мало привлекало Гарри. Он хватался за любую возможность, лишь бы съездить к нашей тете в Бристоль, и уверял всех, что высокие крыши выстроившихся в плотные ряды городских домов ему куда милей наших просторов и далеких, но пустынных горизонтов.
Но стоило папе заговорить о том, что Гарри пора отправить в школу, как мама побелела и невольно протянула руки к своему единственному сыну. Однако Гарри, словно не замечая ее беспомощного призыва и сверкая голубыми глазами, тут же заявил, что и сам очень хочет поехать. И мама оказалась бессильна против его желания и отцовской уверенности в том, что мальчик непременно должен получить первоклассное образование, значительно лучшее, чем у него самого, дабы впоследствии иметь возможность справиться с новым миром, таким скользким и вечно покушающимся на чужие права. Немалую роль сыграло и твердое намерение Гарри непременно учиться дальше, его тихая, но несокрушимая решимость. Впрочем, весь август Гарри снова проболел, и пока он валялся в постели, мама, няня, наша домоправительница и все наши четыре горничные метались по дому, охваченные лихорадочной подготовкой одиннадцатилетнего героя к отъезду.
Мы с папой старались в этой суете не участвовать. Впрочем, так или иначе, почти все эти долгие летние дни нам приходилось проводить на открытых верхних пастбищах, собирая овец в отары и отделяя ягнят от маток – на убой. Гарри, едва поправившись после болезни, тоже предпочитал уединение предотъездным хлопотам и целыми днями сидел в библиотеке или в гостиной, отбирая книги, которые собирался взять с собой, или просматривая только что купленные учебники по латыни и греческому.
– Не может быть, Гарри, чтобы тебе так уж сильно хотелось уехать! – с недоверием сказала я.
– Это еще почему? – спросил он, нахмурившись, потому что вместе со мной в распахнутую дверь библиотеки влетел ветерок.
– Разве можно покинуть Широкий Дол! – с жаром воскликнула я и тут же замолкла, чувствуя, что в очередной раз потерпела поражение в том мире слов, где обитал Гарри. Раз он не понимает, что за пределами Широкого Дола нет ничего, способного сравниться с чудными запахами этой земли, которые приносит теплый летний ветер, раз он не понимает, что даже горсточка этой земли дороже целого акра в любом другом графстве, то я и не сумею это ему объяснить. Мы с ним всегда, даже глядя на одно и то же, видели совершенно разные вещи.
Мы, собственно, и говорили с ним словно на разных языках. Мы даже и похожи-то не были, как часто бывают похожи дети в одной семье. Гарри цветом волос и глаз был в отца – светлый блондин с большими голубыми честными глазами. От матери он унаследовал тонкую кость и нежную улыбку. Только мама улыбалась довольно редко, а Гарри вечно сиял, точно золотоволосый херувим. И, несмотря на то что мать страшно его баловала и все ему прощала, это ничуть не испортило его доброжелательный, солнечный нрав; улыбчивое милое лицо моего брата вполне соответствовало его ласковой и любящей душе.
Рядом с ним я выглядела живым напоминанием о наших норманнских предках, основателях рода Лейси. Я была такой же рыжеволосой, как те алчные и опасные люди, что пришли следом за Завоевателем[3] и, лишь увидев чудесные земли нашего Широкого Дола, стали за них сражаться, пуская в ход также ложь и обман, пока не заполучили этот кусок земли. Да, я была такой же рыжей, как они, но свои глаза, зеленовато-ореховые, чуть раскосые, уголки которых уходили к вискам над высокими скулами, я уж точно ни от кого из своих предков не унаследовала. Ни на одном портрете в нашей фамильной галерее я не видела таких глаз.
– Это же просто подменыш[4] какой-то, – сокрушалась моя мать, разглядывая мои раскосые глаза и высокие скулы.
– Зато она совершенно особенная, ни на кого не похожая, – пытался утешить ее мой светловолосый и голубоглазый отец. – Погоди, она, возможно, еще красавицей станет.
Впрочем, и золотистым кудрям Гарри не суждена была долгая жизнь. Его чудесные локоны состригли, когда готовили его к школе, – для первого парика. Мама расплакалась, увидев на полу это «золотое руно», но сам Гарри прямо-таки сиял от возбуждения и гордости, когда личный парикмахер нашего отца принялся подгонять ему по размеру маленький парик с хвостиком, аккуратно подстриженный и уложенный тугими, как у овцы, завитками. А мама все плакала; она оплакивала его кудри; рыдала над его бельем, укладывая его в корзину; обливалась слезами, упаковывая огромную коробку засахаренных фруктов, которые должны были поддержать ее дорогого мальчика в этом новом и жестоком мире. В последнюю неделю перед отъездом Гарри она постоянно пребывала в слезливом состоянии, и даже он сам находил, что это несколько утомительно, а мы с папой просто выискивали себе всякие «срочные» дела в дальних концах поместья и старались приезжать домой только к ужину.
Когда же Гарри наконец уехал – точно юный лорд в фамильном экипаже с привязанными к запяткам чемоданами и двумя верховыми в качестве сопровождения – и наш отец верхом на своем гунтере отправился с ним вместе, чтобы как-то скрасить сыну первые дни пребывания в школе, мама на весь день заперлась у себя. К моей чести, я тоже уронила пару слезинок, но – и это было весьма разумно с моей стороны – никому не сказала, что слезы мои связаны отнюдь не с отъездом любимого брата. Дело в том, что отец как раз купил мне мою первую настоящую лошадку, желая как-то меня утешить, поскольку теперь я оставалась в доме единственным ребенком. Это была чудесная небольшая кобыла по кличке Белла, и шкура у нее была того же рыжевато-каштанового оттенка, что и мои собственные волосы, а грива и хвост черные, и на носу белая полоска, как звездочка. Но мне запретили даже подходить к ней, пока папа не вернется домой, хотя вернуться он обещал довольно скоро. Так что хоть я и проливала слезы, довольно легкие, впрочем, плакала я исключительно из-за собственного огорчения и временной недоступности моей расчудесной Беллы. Если честно, с тех пор как карета Гарри скрылась из виду за поворотом подъездной аллеи, я вряд ли хоть раз по-настоящему вспоминала о своем брате.
А вот маму после его отъезда охватила настоящая тоска. Она часами сидела в одиночестве у себя в гостиной, что-то шила, выбирала шелк для вышивания или шерсть для гобеленов, раскладывая мотки по цветам и оттенкам, или расставляла по вазам цветы, срезанные для нее мною или кем-то из садовников, или наигрывала какие-то пьески на фортепьяно. Казалось, она совершенно поглощена этими маленькими скучными умениями истинной леди, созданными, на мой взгляд, исключительно для времяпрепровождения. Но, шила она или играла на фортепьяно, руки ее вдруг останавливались и безвольно падали на колени, а взор сам собой устремлялся за окно, где виднелось нежно-зеленое мощное плечо холма, но виделось ей всегда одно и то же: сияющее ласковой улыбкой лицо Гарри, ее единственного и любимого сына. Затем, тихонько вздохнув, она вновь опускала голову и принималась за работу или начинала наигрывать на фортепьяно одну и ту же знакомую мелодию.

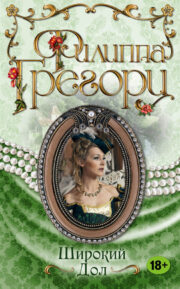
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.