Мой отец жив, Эрик подарил ему жизнь. И не было никакого дня расплаты. Не пролилась кровь моего отца, он жив. Слезы закапали мне на запястья, прежде чем скатиться на одеяло. Я растирала их по лицу. Но почему же нет чувства облегчения? Вместо этого слезы…
И тут я услышала эхо от слов, которые давным-давно раздавались в моем саду, там, где благоухали лилии и мята. Тот, кто произносил их, хорошо знал, как дорога жизнь. Эхо маятником прокатилось от одной балки крыши к другой, докатилось до меня, стало отчетливее и громче, и наконец в ушах моих раздалось:
— Его кровь за мою честь.
Наконец я встала и выбежала за ворота. По самую щиколотку я увязла в жидком месиве и едва успела увернуться от повозки.
— Смотреть надо, ты, глупая гусыня! — проклинал меня крестьянин.
Его плетка рассекла ткань моего платья и обрызгала грязью. Я споткнулась о кочку и упала на дощатую перегородку. И лишь когда повозка уехала, я осмелилась поднять голову. На фоне вечернего неба отчетливо вырисовывался силуэт церковной башни. Рядом со мной открылся люк, и показалось неприветливое лицо.
— Добропорядочные люди в это время по улицам не шатаются. Убирайся отсюда, женщина, здесь ты ничего не получишь!
Я поплелась дальше, не обращая внимания на то, что и другие люди глазели мне вслед, отпуская в мой адрес непристойные замечания; один из них даже попытался схватить меня.
Перед церковным порталом я, тяжело дыша, присела и, оглядев себя с ног до головы, схватилась за голову. Босая, без накидки, в порванной тунике, вырвалась я из дома к церковной башне, даже не зная, где нахожусь… Меня шатало. Божья Матерь, помоги мне… Священнослужитель, который в вечерний час обрабатывал в саду рядом с церковью землю, поднял голову и подбежал ко мне, как только увидел, как я опустилась возле портала на колени.
— Ты больна, женщина? Могу ли я тебе помочь, ты… — Он запнулся, увидев остатки туники разодранные в клочья, лохмотьями свисавшие с моих рук остатки туники. — Дорогая фройляйн, позвольте помочь вам.
Он заботливо помог мне встать с колен и проводил меня в церковь, предложил сесть на мягкую подушку и сам опустился передо мной на колени.
— Чем я могу помочь вам? На вас напали, бедная фройляйн? Негоже в эту пору суток бродить одной…
— Патер… — Я схватила его за рукав. — Скажите, в какой церкви мы находимся?
— Святой Гертруды. Вы заблудились?
Я покачала головой.
— Будьте так любезны, помолитесь со мной, патер. Мне нужна помощь пресвятой девы Марии…
Он, не произнося ни слова, некоторое время смотрел на меня. Потом перекрестил и вынул четки. Жемчужины застучали по деревянной скамье, и он начал молитву глубоким голосом.
— Ave Maria gratia plena… Dominus tecum benedicta tu in mulierbus…
Как замечательно звучали эти слова! В них вложено столько истинного чувства, что обо всем другом можно было забыть — о лицах, шорохах, событиях. Забыть…
— …ora pro nobis peccatoribus nuns et in hora mortis nostrae. Amen.
Я вслушивалась в слова молитвы, позволяя священнику плести над собой святую нить, и время за мной остановилось, без раздумий, грязи, холода… Многое стало совсем неважным.
Открылась дверь, и в церковь вошел Эрик.
— Любимая. — Он положил руки на мои плечи.
Священнослужитель удивленно оглянулся.
— Фройляйн доверилась мне в своем несчастье, господин, и я должен…
— Простите, оставьте нас.
Мантия, тяжелая, как свинец, лежала на моих плечах. Она была пропитана его запахом и лошадью, и потом, и страхом. Но мне не хотелось поворачиваться. Священник взглянул на меня и, когда я кивнула, пробормотав что-то, поклонился и ушел со скамьи. Его шаги глухо раздавались по глиняному полу. Я представила себе, как он вернется в свой сад, чтобы опять копаться в земле…
— Никогда больше так не делай, — сказал мне Эрик.
— Я…
— Не убегай больше.
— Я не убегала!
— Я искал тебя всюду. — Его рука опустилась на мое колено.
— Эрик, мой отец…
— Не говори больше об этом, Элеонора. Никогда больше. — Голос его был таким же твердым, как и его кулак на моем колене. — Никогда больше.
Сердце мое готово было разорваться на мелкие кусочки, но, казалось, и его он обхватил своими пальцами. Мне не стало хватать воздуха, и я больше не могла сдержать слов: «Его кровь за твою честь, Эрик…»
Чего я ждала? Что он набросится на меня? Оттолкнет меня от себя или ударит? Что под этим натиском на меня обрушатся стены церкви, погребя меня под собой? Его неподвижность и сдержанность были хуже, чем выговор.
Мир вокруг меня погибал и рассыпался, как куча вялой листвы, растоптанной в пыль грубыми ногами. Я чувствовала, что упаду в обморок, и тут он повернулся и посмотрел мне в лицо. Глаза его показались такими старыми.
— Поехала бы ты со мной, если бы я убил его?
Вопрос прозвучал как удар грома. Я уставилась на него. Через мою голову точно проехала какая-то повозка со скрипящими колесами и кряхтящими осями, проскрипела сквозь вкривь и вкось разбредшиеся мысли, увядая в них все глубже и глубже… Господь отвергал грешный союз язычника и христианки, не давая благословения. Я знала, что и образ моего отца всегда будет стоять между нами. Закрыв лицо руками, я заплакала.
Мы долго сидели, тесно прижавшись друг к другу и все же разделенные мирами. Порыв ветра загасил свечу перед статуей святой Гертруды. Растирая горящее лицо, я встала, чтобы зажечь эту свечу о другую. Лицо Эрика стало неестественно бледным, когда я вернулась к скамье. Я почувствовала его отчаяние.
Непобедимый до вчерашнего дня, он потерялся перед возникающей между нами болью, как маленький ребенок
— Помолись о моей душе, Элеонора…
Когда мы вышли из церкви, ночь уже накрыла город своим черным покровом. Жизнь на улице замерла, в хижинах и домах стояли дымящиеся котлы с супом, а по полям и пашням вокруг церкви шныряли в поисках падали бездомные собаки. Мы шли по следу повозок вдоль земель общественного пользования. Эрик обернул меня своей накидкой, накинул на голову капюшон. Его правая рука лежала на моем бедре, время от времени, приподнимая меня, он помогал преодолевать самые большие кучи вязкой грязи. И все же я чувствовала, как сырая земля и навоз размазывались по ступне сквозь голые кончики пальцев.
Подол моего черного траурного платья намокал все больше и больше и бил по ногам, всякий раз обдавая холодом. Мы молча прокладывали себе дорогу через болото, издававшее отвратительный запах. Эрик без труда нашел наш дом, хотя тьма была кромешная. Как добропорядочная вдова, наша хозяйка не держала Трактира, зато фонари соседнего кабачка освещали небольшой аккуратный дворик. В комнате, где путешественники собирались, чтобы поужинать чем-нибудь горячим, еще горел свет. Эрик помог мне одолеть внешнюю лестницу, ведущую в нашу комнату, и отправился на поиски хозяйки. Я слышала, как он разговаривал с кем-то на ступеньках, как потом заторопился и то, как наконец раздался звон монет. Пока он не вернулся, я свернулась, как была, вся грязная, клубком на мешке соломы и закрыла глаза. Демоны больше не терзали меня…
Я проснулась от шума — на ступеньках дома бранились слуги. Они тащили чан для купания, уже наполненный до половины горячей водой, в комнаты.
— Если расплескаете воду, то принесете еще один чан. Я плачу вам не за пустой.
В дверях, скрестив руки на груди, стоял Эрик. Один из слуг мрачно взглянул на него, пробормотав что-то вроде: «Покарай, Господи, всех чужаков». По лестнице кряхтя взбиралась служанка. Она принесла два ведра воды и опрокинула их в чан. Последней появилась в дверях Анна.
— Чтобы вы были всем довольны, благородный господин, я пришлю прислуживать вашей даме свою дочь, — улыбнулась она, а рука ее при этом ощупывала на поясе кошель, наполненный деньгами. Служанка фартуком вытерла пот со лба и уставилась на небольшую кучку грязной одежды, из которой странным образом выглядывала я. Она неохотно уступила место Анне, которая, кое-как протиснувшись в узких покоях, положила на край стола толстый кусок мыла.
— Смотрите, я даже раздобыла миндальное масло, его налил мне Магнус Шпеционариус, хотя его лавка еще не открылась, — прошепелявила она, взглянув на Эрика.
— Не сомневаюсь.
Эрик отобрал у нее глиняную бутылку и выпроводил всех за дверь. Закрыв ее на засов, он обернулся.
— Неужели я настолько грязна, чтобы ты нес такие расходы? — тихо спросила я.
Он подошел ко мне, вытащил обеими руками из кровати и уткнулся носом в мою шею.
— Христиане, когда носят траур, не моются, — заметила я.
— И как долго ты носишь траур?
— Слишком долго.
— Давай представим, что траур можно смыть, Элеонора. Будто его можно утопить в мыльной воде и увидеть, как она смывает прошлое, давай попробуем, дорогая…
Я встретилась с его взглядом, полным тоски и отчаяния, и поняла, что он подразумевал подо всем этим. Он стянул с меня остатки моей одежды и, сморщив нос, выбросил ее из окна.
Я поспешно попыталась снять железный пояс, чтобы он не заметил его, но было уже поздно.
— Я-то думал, что время железных ошейников давно прошло, — пробормотал он. Пояс с хлопаньем расстегнулся. Он осторожно взял его в руку. — Ты наденешь его опять?
— А разве время епитимьи уже закончилось?
— Это называется епитимьей, когда уродуется и калечится тело?
Сарказм в его голосе жег сильнее загноившихся натертых поясом мест, когда на них попадала мыльная горячая вода. Стиснув зубы, я крепко держалась обеими руками за край чана. Эрик опустился перед чаном на колени.
— Ну давай, Элеонора, произнес он. — Я держу тебя.
Этой ночью мыло растворило грязь, а заодно и оцепенение и сдержанность, которые, казалось, возникли между нами… И когда от воды уже перестал подниматься пар, кожа его заблестела, как лунный свет на ночном лугу. В неверном свете масляной лампы на его спине бесились и буйствовали домовые, перепрыгивая через рубцы и складки кожи, играя с каплями воды. Ни единый звук не нарушал тишины. Я растворилась в прикосновениях костяного гребня, которым он расчесывал мои посекшиеся волосы, в пощипываниях головы, которые доставляли мне зубцы гребня и кончики его пальцев, в тепле его тела, прижавшегося к моей спине, безмолвного, как тень, и все же такого настоящего.
Теплый аромат миндального масла обволакивал нас, под моими пальцами взлохмаченные волосы на его груди становились мягкими и щекотали мне лицо, как мягкая подушка, на которой мысли обретают покой, чтобы наполнить помещение и раскрыться, как цветок по утренней росе, и мы обновили свое обещание, данное еврею, и скрепили его нашими телами.
Утро началось бурно. Когда я проснулась, Эрика рядом не было. Кувшин с молоком и кусок хлеба свидетельствовали о том, что он не хотел будить меня. Я умылась и, возвращаясь в постель, заглянула в купальный чан, будто ожидая, что тот пропоет мне песню о прошедшей ночи…
Но тут открылась дверь и в комнату вошли слуги, что были у нас вчерашним вечером, даже не поздоровавшись, они схватили чан и потащили его по ступеням вниз, оставляя за собой лужи.
— Нельзя ли поосторожнее вы, болваны? Теперь мне придется все убирать по вашей милости, сколько еще раз повторять? — дочь Анны просунула в дверь голову. — Доброе утро, уважаемая дама. Господин попросил принести вам вот это. — С этими словами она переступила порог, осторожно обходя лужи и держа перекинутое через руку платье золотисто-желтого цвета.
— Утром он рассказал нам об ужасном разбойном нападении, когда вы потеряли все свое имущество, и о том, что сегодня он хочет пойти вместе с вами к костюмеру. А пока поносите мое лучшее платье, для меня будет большой честью видеть его на вас.
И беспечно болтая, она помогла мне одеться, спрашивая о том и о сем, а заодно — о моем происхождении. Вместо ответа я похвалила ее хороший вкус и ловкие руки, которыми она укладывала мне волосы и укрепляла на них вуаль. Она прошептала мне на ухо, что репейник — прекрасное средство для мытья волос; если я разрешу она принесет мне целую коробочку. И еще она знает одну женщину, которая разбирается как использовать то или иное средство.
— Вы позволите?
Вскоре появился Эрик и протянул мне руку, чтобы мы вместе пошли завоевывать Кёльн. Как богачи, заказали паланкин, доставивший нас в пригород. Улицы Кёльна были такими грязными, что ходили по ним пешком только бедняки. Чем ближе оказывались мы к центру города, тем непонятней становился лабиринт улиц. Дома располагались посреди улиц, и повозкам приходилось прокладывать себе путь, огибая их; при этом шум повозчиков, споривших, кто и кому первый должен уступать узкую дорогу для проезда, оглушал.

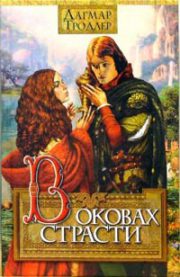
"В оковах страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "В оковах страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "В оковах страсти" друзьям в соцсетях.