Фанни очень хорошо запомнила то лихое время: денег тогда у них не было совсем или было очень мало, малыш Фару болел тифозной лихорадкой, а горничная, испугавшись заразы, сбежала. Именно этот момент выбрала полиция, чтобы задержать в конторе семейства Фару лакея и предъявить ему обвинение в оскорблении нравов. А Фару тем временем, удалившись от света, корпел над четвёртым актом своей новой пьесы и злился, стуча кулаком по столу и дверям, оттого что его машинистка, госпожа Дельвай, вдруг надумала рожать – до появления на свет четвёртого акта.
– Всё сошлось одно к одному! – глухо кричал он в глубине, за закрытыми дверями.
– Тебе легко говорить, – тихонько хныкала Фанни, вскакивая с измятой постели со спутанными волосами и выжимая сок из лимонов для пылающего в лихорадке маленького Фару.
Проснувшись однажды утром при больничном освещении посреди свалявшейся в хлопья пыли, ковров с загнувшимися углами, лимонной цедры, разбросанных домашних туфель, застоялого запаха плохо отрегулированной колонки для нагревания воды и одеколона от влажных компрессов, раскрыв глаза на диван-кровати, откуда всю ночь её выдёргивали хриплые призывы: «Мамуля… мне жарко… мамуля… пить», Фанни почувствовала, как в ней поднимается раздражение готовых вот-вот замертво свалиться животных и женщин с красивым, слегка вялым подбородком.
«С меня хватит. Горничная всё время опаздывает, у нас нет денег, чтобы оплатить сиделку, а Фару находит всё это нормальным и думает только о своём третьем акте… Сейчас пойду разбужу его и выскажу ему всё, что думаю, я сейчас отдам ему мальчика и скажу, что теперь его очередь…»
Но маленький Фару простонал: «Мамуля», и Фанни словно в первый раз услышала голос ребёнка, который даже в бреду ждал помощи только от неё, от чужой ему женщины… И она опять принялась греть воду, ополаскивать тазы, выжимать лимоны и молоть кофе.
Тем же самым утром к ним в дверь позвонила миловидная молодая женщина, спросила «мэтра» и объявила ему, что госпожа Дельвай «счастливо разродилась прекрасным мальчиком в восемь фунтов» и сможет занять своё место не раньше чем через три месяца. Онемевшему и разъярённому Фару она предложила временно свои услуги, и он в знак согласия кивнул головой. В последующие дни мадемуазель Джейн Обаре любезно приняла приглашение отобедать с семейством Фару на уголке стола, стала перестилать постель больного мальчика и взбадривать Фанни с помощью коктейля из яичных желтков с портвейном. Мало-помалу Джейн продемонстрировала всё, что она умела делать. С помощью воспрянувшей духом Фанни они вдвоём сменили четырёх служанок, следя краешком глаза одна за другой. По одинаковой манере чистить жёлтые ботинки, драить ванну без помощи минеральной пасты, разбивать яйца в миске и зажигать плиту не пачкая пальцев они признали друг в друге работниц высшего класса, вышедших из французской мелкой буржуазии, придирчиво-требовательной, не считающейся ни со своей усталостью, ни с потом, проливаемым потомством. В среде этой небогатой буржуазии, гордой и щепетильной, дочерей ещё учат тому, чтобы перед занятиями в школе постели были вытрясены и заправлены, велосипед почищен, чулки и нитяные перчатки выстираны в тазике с мылом.
Такое сотрудничество оказалось плодотворным. Место сатира-соблазнителя занял молодой лакей, помешанный на театре, горничная вернулась, запах яблочного пудинга и мастики для паркета слились в свежий с кислинкой аромат, а температура у Фару-младшего опустилась до 37,2°. Воодушевлённый этим Фару-старший, улыбаясь брюнетке Фанни, блондинке Джейн, своему лежащему пластом и прозрачному, как створки раковины, сыну, вытянул свой третий акт, проскочил под носом у Пьера Вольфа в «Водевиль», получил «приличный аванс» у Блока и любовно затормошил Фанни:
– Фанни, у меня есть для тебя один совет – пойди и выбери себе шубу. И не тяни слишком долго, Фанни!
Она обласкала Фару взглядом прекрасных сияющих глаз, мягко коснулась его губами и нежными бархатистыми ноздрями, сочтя себя достаточно вознаграждённой: ведь она имела неосторожность расплатиться с доктором.
– Не забудь, – сказал ей Фару какое-то время спустя, – про подарок для Джейн, поскольку мы в ней больше не нуждаемся. Часы-браслет, конечно.
Фару и Фанни не могли предположить, что в момент прощания Джейн бросится к ним в объятия со слезами и со сбивчивыми просьбами, среди которых им удалось разобрать слова об искреннем горе, услышать про сожаление в момент расставания с «мэтром», про боязнь опасного одиночества, про потребность посвятить себя такой подруге, как Фанни… Фанни разрыдалась, совиные глаза Фару, увлажнившись, заблестели, а Джейн поспешила объяснить, что имеющееся у неё скромное состояние избавляет её от решения неприятнейшей дилеммы: жить на иждивении новых друзей или получать от них жалованье.
Буржуазную богему так же, как и прочую другую, подкупает бескорыстная дружба. Оставаясь наедине, супруги Фару воспевали достоинства Джейн и свою собственную радость, охватывавшую их по мере того, как они открывали её для себя, одновременно придумывая её.
– Эта девушка совершенна, – говорил Фару, – поистине совершенна!
– Не знаю, «совершенна» она или нет, – отвечала Фанни, – но она стоит много больше, чем твои комплименты в стиле «рекомендательных писем». Представь себе, она скроила и сшила мне вот эту тунику из парчи, чтобы я могла носить с ней мою чёрную плиссированную юбку из креп-марокена.
– Хорошенькая манера возвысить то, что я недооцениваю, – занимать её на целый день кройкой и шитьём?.. Впрочем, – добавлял он, глядя глазами, полными львиной кротости, – Джейн довольно сильно напоминает мне тех особ, что ходят шить к богатым, оттого что ужас как боятся общаться с бедными…
Фанни невольно рассмеялась:
– Да хранит меня Господь от похвал, которые ты мог бы сказать в мой адрес, Фару!
Теряя привлекательность новоявленной родственницы, невиданной няни, несказанной подруги, Джейн тем не менее сохраняла все свои достоинства. Она сносила переменчивость настроения Фару, приступы его весёлости, ранящие порой больнее, чем приступы его гнева, резво печатала на машинке, звонила по телефону. Она запомнила телефонные номера театров, имена генеральных секретарей, научилась льстить «этим дамам» из касс предварительной продажи билетов. Она называла Кенсона своим «большим другом» и разделяла без видимого удивления финансовую безалаберность супружеской пары, которая, привыкнув отказывать себе в самом необходимом, упорно стремилась к излишествам.
Белокурая – если тончайший пепельный оттенок, цвет тополиной рощи можно назвать белокурым – Джейн, допущенная в ложу бенуара четы Фару, прошла через небольшое скандальное посвящение, которым её почтила имеющая на это право театральная публика.
– С кем спит эта хорошенькая пепельноволосая девушка?
– С брюнеткой Фанни, я полагаю?
– Да нет же, старина, с этим козлоногим Фару, который наградил её титулом секретарши и навязал своей жене…
Фару, спрошенный об этом напрямик Кларой Селлерье, в двух словах поставил всё на свои места:
– Не насилуйте своё воображение, очаровательная подруга. Я, как и вы, уважаю классику. Между мной и Джейн, которая является моей внебрачной дочерью, нет ничего, кроме маленького, славного и простого инцеста!
– Где Джейн? – постоянно спрашивала Фанни, подчиняясь привычке видеть везде, куда бы ни падал её взгляд, эту обходительную и деятельную молодую женщину.
Присутствие Джейн могло сойти за своеобразную роскошь, позволяемую себе Фанни. Семь лет разницы в возрасте позволяли ей некоторую бесцеремонность в обращении с Джейн, а той диктовали любезность фрейлины или предупредительной племянницы. Фару, возвращаясь домой, приветствовал Джейн не больше, чем какой-нибудь предмет. Но ему сразу бросалось в глаза её отсутствие:
– Где Джейн?
– У себя в комнате, я думаю, – отвечала Фанни. – Она только что пришла от Перужи.
– Она теперь покупает обувь у Перужи? Вот это здорово!
– А почему бы ей не покупать обувь у Перужи, если бы ей захотелось? Поскольку мне туда ходить лень, то Джейн, у которой нога немного меньше моей, берёт с собой шерстяной чулок и примеряет там обувь для меня… Ты хочешь, чтобы я её позвала?
– Нет, зачем она мне?
– Но ты же только что про неё спрашивал…
– Да?.. А, это я на предмет моего стакана «Витте ля» с пиперазином.
– Для этого есть лакей. Скоро ты будешь заставлять Джейн стирать тебе носовые платки.
– Ну а сама-то ты?
И они заговорщицки и укоризненно засмеялись «Где Джейн?» – молча спрашивал одними обеспокоенными глазами маленький Фару, остановившись, словно перед натянутой верёвкой, перед пустым стулом Джейн. И, поддразнивая его, Фанни нередко громко отвечала ему, хотя он вслух ничего и не говорил.
В июле семейство Фару покидало Париж, чтобы провести лето где-нибудь на даче, выбранной в рекламных столбцах «Жизни в деревне» или рекомендованной Кларой Селлерье.
Фару нужны были уединение, недели прихотливого труда без метода и меры, уверенность, что он не встретит нигде тех, кого он называл «мордами». Оказываясь за пределами Парижа, он с трудом скрывал свою неспособность пользоваться большими и роскошными благами: морем, солнцем, лесом; его тревога, его надменная робость маленьких людей передавалась и Фанни.
– В По, говорят, очень красиво, – подсказывала ему Фанни. – А тебе известно, что я никогда не была в Динаре? Ты не находишь, что это даже смешно – в моём возрасте ни разу не побывать в Динаре?
– Зато мне было бы совсем не смешно, например, по три раза в день сталкиваться нос к носу с Максом Море!
– А что он тебе такого сделал? Что, он был с тобой нелюбезен, этот Макс Море?
– Вовсе нет!
– Тогда в чем же дело?
– Одно с другим никак не связано, малышка… Тебе этого не понять. Море нравится переодеваться летом три раза на дню. А мне – нет. Я раз и навсегда решил проводить свои летние месяцы один, босиком и без целлулоидных воротничков.
Он упивался своей властью вождя кочевников, организуя отъезды. Семейство Фару, экипированное двумя новыми чемоданами и двумя десятками плохо увязанных тюков, сопровождала постоянно меняющаяся прислуга, и все прибывали на какую-нибудь слегка запущенную виллу, в какой-нибудь мрачно обставленный замок, в коттедж со звукопроницаемыми стенами – эти подзабытые современным туризмом пристанища, где, однако, Кларе Селлерье удалось некогда урвать немного мимолётного счастья. Пишущая машинка, последние романы сезона, рукописи Фару, словарь, чемоданы-шкафы и плед Фанни находили своё место, а Жана Фару отпускали в поле.
«Что станет с Джейн без нас и с нами без Джейн?» – растерянно думала Фанни, когда с наступлением июля возникала угроза, что медовому месяцу дружбы будет положен конец.
Однако она успокаивалась, услышав слова Фару:
– Джейн, вы возьмёте с собой первый, второй и все наброски третьего. Пишущую машинку отдадите лакею, он привезет её поездом.
«Вот всё и устроилось», – облегчённо вздыхала Фанни. Она опять радостно воспринимала настоящее и в который раз уютно устраивалась среди окон с поднимающимися рамами, плетёных кресел, с новой книгой, одеялом из ангорской шерсти, коробкой конфет, кожаной подушечкой. Тем не менее однажды ей пришлось впустить в это настоящее немного прошлого – прошлого Джейн.
– Вам надо знать обо мне всё, Фанни! – немного торжественно начала Джейн.
– Ну зачем это? – спросила Фанни, у которой вежливость уступила место честности.
– Но, Фанни, я умерла бы от стыда, если бы стала скрывать от вас… После того приёма, который я здесь встретила! Надо, чтобы вы знали, кто я есть, знали меня как с хорошей, так и с плохой стороны, чтобы вы могли правильно судить обо мне…
От такого вступления чёрно-синие, как у породистых кобылиц, глаза Фанни устремились куда-то в сторону, останавливаясь с опаской то на облаке, то на лампе, то на идущем по улице прохожем, избегая Джейн и её преданного взгляда, Джейн и её воздушной шевелюры, Джейн и её простенького платья, такого простенького, что не заметить её в нём было невозможно.
«Ну почему, – думала про себя Фанни, – почему мне уже заранее скучно, как на постановке какой-нибудь американской пьесы? И зачем эта родословная, эта подноготная в доме, где никто никого ни о чём не спрашивает? Есть ли в этом какой-то смысл? Прилично ли это?»
А Джейн уже начала свой рассказ о том, как она, дочь-бесприданница одного учителя рисования при муниципалитете («Вы можете увидеть работы моего отца в лицее Дюге-Труэна, среди прочих – первоклассный рисунок углём "Ослы на водопое"»), носила по садику Сен-Манде, между обнажёнными сиренями и лаврами в кадках, свою растерзанную душу, раня и ушибая её, душу бедной и не обученной никакому ремеслу девушки, готовой на всё, одержимой.
Джейн никогда не говорила об этом при Фару. Она дожидалась, пока завершение трапезы не вернёт его к трудам или безделью. И даже оставаясь наедине с Фанни, она продолжала ждать, пока у той не упадёт с колен книга или пока она не проснётся, посвежевшая после своей сиесты, со словами: «Что новенького, Джейн?» Поскольку Джейн рассказывала не по порядку, то Фанни так никогда и не удалось толком узнать, то ли это Мейрович, удивительной красоты поляк и, кстати, коллективист, отнял Джейн у Дейвидсона, то ли он получил её из щедрых и опасных рук этого Дейвидсона, который в её рассказе предстал как «тот самый английский композитор».

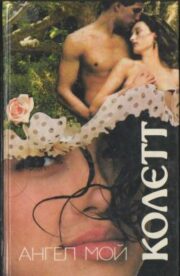
"Вторая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вторая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вторая" друзьям в соцсетях.