Я не представлял себе крупных хищников с сильными лапами, мои дикие звери были маленькими, крепкими, мускулистыми. Они стояли у стены, опираясь одной ногой о серый бетон, голова наклонена и слегка повернута набок, глаза вверх. Женщин-хищниц гораздо меньше, и они вечно в движении. Вот они уходят от меня, вдруг застывают на месте, поворачивают головы, и я ловлю их взгляды сквозь локоны колышущихся волос.
Жестокость хищников сдержанна, заперта в клетку, запутанна, она скручена и замкнута на саму себя. Жестокость — грива этих существ: прижавшись к ней щекой, чувствуешь силу.
Алкогольные пары, ритм танца внезапно слились в поэтический порыв, и слово «дикий» наложилось в моем сознании на гнусность моих прошлых ночей.
Мои сошествия в ад — просто игра теней. Ягодицы, груди, члены, пухлые животы никому не принадлежат. Почти все слова изгнаны, остались лишь междометия и восклицания, побуждающие к немедленному удовлетворению желания. Все остальные звуки раздражают меня, они как пародия на разговоры мира живых.
Чтобы не затеряться среди теней, я должен был научиться осторожности, умению различить другую тень во мраке инфернальности. Тени наших тел должны были стать чернее самой ночи. Каждый из нас видел в плотной черноте вожделенного партнера отражение себя самого. Но ведь тень — порождение света, значит, на поверхности, где-то там, далеко, был его источник. Этот волшебный свет, так похожий на солнечный, дарили нам дикари, хищники. Сэми и его сородичи светились, они просто сияли, а я обожал их, как солнцепоклонник. Когда хищные звезды засыпали, уходили или исчезали, ко мне возвращались темные загульные ночи. Меня всегда интересовало, было ли у Сэми и ему подобных свое светило, или их согревало тепло собственного света? Куда стремились их души, от кого бежали, к чему влекли меня?
Для меня горизонт стал болезнью. На этой плоской линии я становлюсь почти невидимым, превращаюсь в вирус.
Я был пьян. Мне показалось, что я вижу перед собой призрак Готфрида Бенна. Он взял меня за плечо и прошептал:
— В поэзии нет ни смысла, ни ценности. Ничего нет — ни до, ни после. Она самоценна.
Я попытался высвободиться, крича, что в нем нет ничего от поэта, но тень цеплялась за меня, бормоча:
— Двойная жизнь, которую я теоретически обосновал, а потом и прожил, всего лишь сознательный, систематический и направленный распад личности…
Мы вышли на улицу как в полусне. Сэми рвало в сточную канаву, меня шатало, я то и дело натыкался на припаркованные на тротуаре машины. Серж уходил от нас, нежно держа за руку молодого кабила, которого снял на ночь. Какой-то дружок Сержа уступил ему свой загородный дом.
Призрак Бенна материализовался на улице и пронзительно закричал мне в ухо:
— Жизнь — всего лишь опыт, в результате которого получается нечто искусственное!
Из собственной жизни я извлек лишь смертный приговор. Призрак прижал меня к себе, я судорожно замахал руками, пытаясь избежать смертельных объятий. В это мгновение чье-то лицо выплыло из мрака и склонилось над моим плечом — Сэми. Он существовал, он обвивал меня руками.
У меня квартира на восемнадцатом этаже в башне на краю XV округа. Поддерживая друг друга, мы с Сэми подошли к лифту. Я открыл дверь и тут же рухнул на кровать. Сэми раздевался, а я любовался его прекрасным мускулистым телом. Почувствовав мой взгляд, он спросил:
— Ты любишь мальчиков?
— У меня только одна койка, но тебе нечего бояться, я тебя не изнасилую!
— Когда мне было тринадцать, меня трахнул в Амстердаме кондуктор трамваев… Я не голубой, но ничего не боюсь.
Мы лежали обнаженные, медленно сближаясь. Сэми гордился своим телом, вначале он позволил мне только ласкать его. Потом он возбудился, я тоже, мы поцеловались, и его рука легко касалась моей кожи, ягодиц, члена. Мои глаза закрывались, но я скользил губами по его груди, животу, медленно спускаясь к члену. Он кончил у меня во рту, закричав от страсти и наслаждения.
Я проснулся с головной болью, встал с постели, чтобы собрать чемодан. Сэми еще спал. Он лежал на животе, и белизна простынь подчеркивала красивый изгиб бедер и скульптурную красоту маленького поджарого зада.
Я спросил себя, что делает этот малыш в моей постели. Его тело, кожа, рот, движения — все указывало в нем на любителя женщин. Но если я и понравлюсь ему, то уж никак не своей женственностью. Я знал, что, если Сэми почувствует мою любовь, она будет немедленно обречена, но именно эта безнадежность меня и завораживала, на этот раз я терплю поражение не из-за неверного движения, неосторожного слова или фальшивого тона, не имеют значения ни тело, ни манера одеваться, ни глупость, ни жадность, ни слишком явная гомосексуальность.
Желание любить Сэми идентифицировалось в моем подсознании с возможностью войти в историю, принять участие в некоей общепланетарной битве. Я подумал, что за этим боем последуют другие сражения за великие, пусть еще ненайденные цели.
А может быть, я просто суеверно считал, что великая битва разбудит неизвестный психосоматический механизм, он начнет вырабатывать спасительные гены и очистит мою отравленную кровь?
Сэми проснулся. Он попросил меня отвезти его к родителям, на южную окраину Парижа. Я ответил, что у меня через два часа самолет на Касабланку, поэтому я вызову ему такси и подброшу до Итальянской Заставы. Он что-то пробормотал в ответ и молча принялся за сваренный мною кофе.
В такси он уклончиво отвечал на мои вопросы, так что, когда он вышел из машины, я знал лишь, что малыш вернулся в город всего два месяца назад, пройдя службу альпийским стрелком. Вначале Сэми подписал контракт на пятилетнюю воинскую службу, но через шесть месяцев разорвал его. Испанец по матери и араб по отцу, он служил теперь на полставки в оперном театре на площади Бастилии и жил с тридцатипятилетней журналисткой, работавшей в каком-то левом еженедельнике. Мальчик ушел, а я отправился на свой самолет, чтобы улететь в Марокко.
Как это ни странно, я при взлете боялся гораздо меньше, чем прежде. Скорее всего, точное знание, что тебе угрожает смертельная болезнь, притупляет все страхи.
Я вдруг подумал, что прошлой ночью у меня были странные видения: Сэми и призрак Готфрида Бенна. Простой солнечный мальчик-метис, сотрясаемый внутренней жестокостью… И циничный, путаный ум человека, которого нацисты ненавидели за формализм, а их враги за то, что проповедуемая им культура, выродившись, породила нацизм.
Я встретился с режиссером в Мохаммедии. Мы сразу же начали выбирать натуру. Он сам не знал точно, чего хочет, но в его колебаниях не было ничего даже близко похожего на сомнения истинного творца. Этот придурок так раздражал меня, что приходилось делать над собой невероятные усилия, чтобы скрыть отвращение. Режиссер пытался внушить окружающим, что эта профессия для него — естественное продолжение заката семьи вырождающихся буржуа. Он наверняка заполнит пустое пространство целым набором зауряднейших клише, а я буду вынужден это снимать.
Мы жили в «Синтии», роскошном отеле, построенном в семидесятые и постепенно ветшавшем. Редко когда он бывал заполнен до предела, разве что во время набега какой-нибудь большой группы туристов. Здание выглядело унылым, в нем не чувствовалось достоинства пришедших в упадок старинных особняков, ведь у гостиницы не было прошлого. Память, пустая, как огромная дыра патио с выходящими на него галереями и рядом бесконечных дверей. Стены, выкрашенные в желтовато-зеленоватый цвет, и оранжевые паласы — ужасное свидетельство человеческого одиночества, безбрежного, как океан.
Я ощущал пустоту отеля почти метафизически и предложил режиссеру снять здесь несколько кадров. Но он надрался в Булауане и после некоторого колебания важно заявил мне:
— Это не предусмотрено сценарием, я приехал в Марокко не за тем, чтобы снимать кино в каком-то сраном отеле, каких тысячи в Париже или Гамбурге!
Я лежал в шезлонге возле бассейна, и мне казалось, что жизнь проходит мимо меня, как бесчисленные страны, посещаемые американскими туристами: быстрым деловым шагом, лишь бы «отметиться» в как можно большем количестве городов. Я был совершенно одинок.
Я больше не притягивал приключений, я научился приспосабливаться к любой ситуации, много раз это спасало мне жизнь. Я возвращался без единой царапины из таких мест, где запросто мог погибнуть, «возвращался», как выходят из ада, с того света: ради секса, иллюзии любви, грубой реальности чужих жизней, чтобы увидеть, узнать, я опускался в такую грязь, что забывал о всех приличиях. Опускаясь в пучину, я не рассуждал. Как собака хорошо чувствует того, кто ее боится, и частенько кусает его, так и любовники-подонки сразу распознают того, кто не предан им душой и телом, чужака, сохранившего связь со своим миром, выдавшего себя жестом, словом, взглядом, одеждой, даже легкой скованностью.
«Душой и телом» — неудачное выражение, они и так едины. Когда Кадер овладевал мной, даже на излете нашей любви, вначале он проникал в мое тело, а потом пронзал и Душу.
Прежде я способен был остановиться, притормозить, отдаться течению жизни. Когда кончалась очередная любовная история — очередной «опыт», — я умел размышлять и спокойно оценивать его, одновременно устремляясь в будущее: родившиеся под знаком Стрельца вечно куда-то торопятся. Для меня в этом была своего рода защитная мораль, заставлявшая избегать людей и мест, которых коснулся конформизм или строго установленный порядок. Я начинал сходить с ума, почувствовав над собой чью-то власть, хотя мне и нравилось испытывать собственное могущество над другими людьми.
Меня вела исступленная жажда новизны, и ни на что иное я был просто не годен. Эта необходимость движения, ставшая во мне как бы инстинктом самосохранения, сыграет со мной злую шутку, заключив в абсолютную неподвижность: куда идти, если тебе кажется, что ты прошел уже всеми путями, все попробовал?
Съемки состоялись, но я ничего не могу вспомнить, кроме каких-то людей, двигавшихся передо мной и вокруг камеры на фоне африканских пейзажей под почти белым от жары небом.
Группа распалась, марокканцы вернулись домой, французы улетели в Париж. Я решил остаться, взять напрокат машину и покататься по стране. Три дня спустя я позвонил в лабораторию: пленки проявили, все вроде бы было в порядке, хотя на двух кадрах обнаружились царапины. Я профессиональный оператор, но в который уже раз мысль о том, что ничтожная невидимая пылинка, попавшая в объектив, грозила уничтожить целые сцены любви, смерти, схваток и предательств, повергла меня в ужас. Художник может пустить в ход ластик, даже разорвать рисунок и начать творить заново, но киношник скован, на него давит чудовищная сложность процесса съемок: десятки посредников, помощников, рабочих, техников, немыслимые суммы денег…
Я сидел за рулем настоящей машины, но напоминал сам себе американского актера, играющего сцену не в автомобиле, а в голливудской декорации. Надо мной было настоящее небо, позади оставалась реальная дорога, менялись пейзажи, но во всем этом было, пожалуй, не больше подлинности, чем в «плюрах»,[6] проецируемых на экран из-за задней боковой стенки «плимута» образца 1950 года.
Но когда я попал в Атлас, все вдруг изменилось. День затухал, тяжелые черные тучи собирались над Тизи н’Тишкой, к которой я направлялся.
Я подсадил голосовавшего на дороге молодого торговца аметистами. Наверное, я ехал слишком быстро, потому что он от страха вцепился обеими руками в сиденье. Между его напряженным молчанием и воплями спортивного журналиста, комментировавшего по радио матч чемпионата мира по футболу, пролегла пропасть величиной со Вселенную. Карабкаясь по ступеням лестницы на крышу мира, расположившегося прямо под свинцовыми тучами, я был уверен, что на другом склоне горы меня ждут новые предзнаменования.
В Тамлате в жаркую погоду из скальных трещин как будто сочится мед. Круглый год цветут прекрасные розовые цветы. В июне в полях работают женщины, позже их сменяют мужчины.
Жители, уставшие ждать, пока правительство выполнит обещание и проведет электричество, скинулись на электрогенератор.
Как-то вечером, в слабом свете фонарей, я спускался по одной из улочек, завороженный тягучей музыкой. Был последний день мусульманского праздника рамадан,[7] и веселье на площади было в самом разгаре.
Молодежь танцевала; девушки были нарядно одеты, накрашены и увешаны драгоценностями; юноши били в широкие плоские барабаны или расколотые пополам бидоны. Взад и вперед носились возбужденные малыши. Юноши и девушки, выстроившись в два ряда, стояли лицом друг к другу, они делали несколько мелких шажков вперед, потом отступали и кружились на месте. Ребятишки в ритм музыки не попадали, и им велели отойти в сторону.

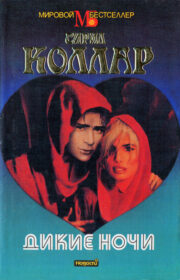
"Дикие ночи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дикие ночи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дикие ночи" друзьям в соцсетях.