До сих пор Ютта, оцепеневшая от ужаса, стояла в нише окна. Человек этот, имевший столь царственный и непоколебимо спокойный вид, был не кто иной, как могущественный министр страны, перед которым все трепетало. Она его еще никогда не видела, но ей было хорошо известно, что один штрих его пера, одно его слово могли осчастливить или погубить не одну тысячу людей; точно так же и участь единичных личностей была в его руках. Действительно, конституция государства в его энергичных и самовластных руках не имела никакого значения – он был самодержавен.
И этого человека старая слепая женщина гнала со своего порога, осыпая укорами и насмешками, которые принимал он со спокойствием и величием.
Все чувства молодой девушки возмущены были поступком матери; ей не приходило в голову, насколько могла быть права старуха в своих упреках: для известных натур могущественный всегда прав; они громят всякий протест, громят его нередко с большим ожесточением, чем самую несправедливость. Что такие натуры составляют большинство, сама история является доказательством этого – терпенье народов достигало иногда невозможных границ.
К таким натурам принадлежала и молодая девушка. Она выскользнула из своего угла и схватила руку оскорбленного вельможи.
Как обольстительна была эта юная красавица, когда, откинув назад идеально прекрасную головку, с выражением беспокойства смотрела она на могущественного министра и, взяв его руку, прижала ее к своей груди!
Поднятая рука министра опустилась, он повернул голову и бросил взгляд на молодую девушку. Взгляд этот пронзил огненным потоком ее сердце. Этот на минуту сверкнувший взор с каким-то загадочным выражением остановился на вспыхнувшем лице Ютты. Барон Флери улыбнулся и медленно поднес маленькие дрожащие ручки к своим губам.
А рядом сидела слепая мать и, затаив дыханье, ждала едкого ответа, ответа, из которого она могла бы заключить, что смертельный враг ее уязвлен. Но напрасно: не сказано было ни единого слова. А между тем он стоял возле нее, она слышала его движения, даже чувствовала его дыхание. Это упорное, презрительное молчание было для нее невыносимо.
– Да, да, Флери обладают могуществом, в их руках судьбы людей! – снова начала она с горькой усмешкой. – Наступит время, история отнесет их к тем людям, которые пинком и плетью вели французский народ постепенно к революции… И вот, изощрив над ним всю свою жестокость, все свое неограниченное своевольство, они трусливо бегут за Рейн! Последние убогие крохи придворного витийства и учености изгнаны из Версаля, и на них кладут запреты для того, чтобы натравить соседний народ на родную нацию! Чужие руки должны связать и опутать жертву для того, чтобы она снова терпеливо и без сопротивления лежала у ног своего владыки! Позор вам, благородные патриоты!
– Оставим это, милостивая государыня, – спокойно прервал ее министр. – Вам было время и досуг мотивировать как угодно вашу личную ненависть ко мне, но не оскорбляйте мою ни в чем не повинную фамилию… Соблаговолите объяснить мне, какое право имеете вы обращаться ко мне с подобной речью?
– Боже справедливый, и он еще спрашивает! – воскликнула больная. – Как будто не его рука помогла столкнуть несчастного в пропасть!
Она, видимо, старалась победить свое волнение. Облегчив грудь глубоким вздохом, она вторично распрямила худощавый стан и, торжественно подняв руку, продолжала:
– Станете ли вы отрицать, что имение Цвейфлингенов было растрачено за столом, где его превосходительство, теперешний министр, когда-то председательствовал?.. Станете ли вы отрицать, что наемный слуга барона Флери приносил секретно любовные записочки графини Фельдерн несчастному, когда он, поддаваясь мольбам и видя страдания своей бедной жены, решался покончить с обманом и позором? Станете ли вы отрицать, что он потому так рано должен был искать смерти, что потерял честь и слишком поздно узнал своего обольстителя! Отрицаете ли вы все это? Тысячи трусливых душ вас оправдают, но я буду обвинять вас до последнего издыхания! Справедливость существует…
Бледные щеки министра как будто покрылись еще большей бледностью, но это было единственным признаком его внутреннего волнения. Ресницы снова опустились на глаза и сделали их непроницаемыми; гибкими, тонкими пальцами он водил по черной блестящей бороде, и вся его осанка как бы напоминала о слушании утомительного делового донесения просителя, а не об ужасном обвинении, возводимом на него.
– Вы больны, милостивая государыня, – сказал он мягко, обращаясь как бы к ребенку. – Это положение извиняет в моих глазах ваше непомерное ожесточение. Я буду стараться забыть об этом… Разумеется, я очень легко мог бы отклонить все ваши обвинения и многое приписать истинному источнику – именно безмерной женской ревности.
Последние слова произнесены были с особым выражением, причем обыкновенно звучный голос его сделался острым, как кинжал.
– Но я не желаю входить в некоторые подробности в присутствии этой молодой дамы, не желаю раскрывать такие вещи, которые жестоко оскорбили бы ее девственные чувства.
Больная засмеялась горько и насмешливо.
– О, как это трогательно! – вскричала она. – Надо только удивляться этой блестящей дипломатической выходке! Но не стесняйтесь, пожалуйста, говорите, – что бы вы ни сказали, все будет как нельзя более кстати: слова ваши бросают должный свет на ту сферу, которую эта молодая девушка только что в своих детских мечтаниях называла раем… Раем – этот лживый покров, скрывающий бездонную пропасть!.. Весь остаток своей силы и энергии употребила я на то, чтобы удалить из этой сферы мое дитя, для собственного ее счастья, а также и в отмщение за себя. Последняя из Цвейфлингенов вступает в мещанскую семью, где, я знаю, будут ее носить на руках, а свет скажет: «Глядите, как меркнет блеск аристократического имени, когда ему не достает богатства!» Желанное явление, которым подтверждаются новейшие воззрения, камень за камнем разрушающее основание аристократизма!
Голос ее прервался.
– Уходите отсюда, – произнесла она в изнеможении. – Это был бы самый горький конец моей изломанной жизни, если бы мне суждено было умереть в вашем присутствии!
Минуту министр оставался неподвижен.
На лице больной уже лежала печать смерти. В то время как Ютта дрожащими руками подносила лекарство умирающей, барон Флери тихо приблизился к двери. На пороге он остановился и повернул голову к девушке. Глаза их встретились – ложка выпала из трепещущих рук, и темные капли лекарства пролились на белую скатерть…
Барон усмехнулся и исчез за дверью. Неслышными шагами прошел он галерею. Но не к входной двери направился он, с порога которой так безжалостно гнала его владетельница Лесного дома.
Буря выла еще ужаснее и потрясала массивную дубовую дверь, как бы требуя жертвы, которую она могла бы подбросить к вершинам древесных исполинов…
В жарко натопленной комнате Зиверта министр с гувернанткой и ребенком стал ожидать возвращения старого солдата, остававшегося при лошадях.
Вскоре старик возвратился и с ним несколько лакеев из Аренсберга. Их большие фонари осветили узкую лесную тропинку, завязший экипаж был вытащен – и минут пять спустя негостеприимный дом стоял по-прежнему пустынен и одинок среди стонущего леса.
Около полуночи Зиверт с одним из чернорабочих шел в местечко Грейнсфельд за доктором. Буря стихла, в лесу царствовала мертвая тишина.
В жилище горного мастера молодой Бертольд Эргардт метался в лихорадочном бреду. Он отталкивал от себя бледные, очаровательные, с умоляющим жестом протянутые к нему руки графини Фельдерн, которая лежала перед ним с распущенными длинными золотистыми волосами, с тонкой струйкой крови, ниспускавшейся с виска по белоснежной шее на грудь.
В Лесном доме все было безмолвно. Последняя борьба, борьба жизни со смертью, совершалась здесь тихо. Похолодевшие руки больной недвижно лежали на коленях; едва слышное дыхание становилось все реже и реже; веки слегка подергивались судорогой, но на губах покоилась ясная улыбка, выражавшая полнейшее внутреннее удовлетворение…
Ютта припала к коленям умиравшей. В ее темных локонах все еще держались теперь увядшие нарциссы, а нарядное голубое платье расстилалось в беспорядке по грубому полу. Тихий шелест шелка приводил в ужас дочь, напоминая ей последнюю скорбь материнского сердца.
Глава 4
На небольшом, окруженном полуразвалившейся оградой, скромном нейнфельдском кладбище погребены были бренные останки госпожи фон Цвейфлинген.
Здесь, конечно, не видно ни одной из поросших мхом эмблем, которые встречаем мы в аристократических склепах и которые своим каменным языком говорят нам о вечных преимуществах и непреодолимых преградах между сынами человеческими. Снежный саван окутывал кладбище. Кое-где, нарушая общее однообразие, торчали черные деревянные кресты. Летом этот унылый вид исчезал. Насекомые жужжали в траве, резвые бабочки порхали по кустарникам. Солнечный луч усердно вызывал жизнь на этом поле смерти, и вся эта жизнь была несравненно величественнее, чем те мавзолеи, где господствуют лишь тлен и гниль…
Может быть, эта мысль, а тем более жгучая ненависть к своему сословию были причиной, почему госпожа фон Цвейфлинген избрала эту пустынную могилу.
В тот самый день, когда земля скрыла исстрадавшееся сердце слепой матери, дочь, покинув Лесной дом, поселилась временно у нейнфельдского пастора. Отсюда она должна была вступить молодой хозяйкой в жилище горного мастера.
Как ни тяжки были молодому человеку переживаемые им дни – брат его почти безнадежно лежал в горячке, женщины, которая матерински была расположена к нему, уже не было, – теперь, идя лесом с любимой девушкой, он был невыразимо счастлив, забывая все свое горе и заботы. Это существо, шедшее с ним рука об руку, существо, которое он боготворил, в целом свете никого не имело, кроме него. И если теперь она идет молча, с опущенными глазами, тихая и сосредоточенная, какою он никогда ее не видывал, если эта прежде столь подвижная рука теперь как мраморная лежит на его руке, – все это, столь новое и чуждое этому существу, в настоящее время имеет свою причину, которая окружает его еще новым ореолом. Причина эта – скорбь об умершей матери…
Он знал, что эту безмолвную, бесслезную скорбь выплачет она на его сердце, что юная душа оживет снова во всей своей прежней свежести и живости, чарующих его молчаливую, серьезную натуру. О, как он будет ее лелеять и охранять!.. Счастье его казалось ему таким же верным, как то, что теперь светит над ним солнце. Не заверяла ли его несчетно раз Ютта, что «любит его бесконечно», и не радовалась ли она так по-детски, что будет хозяйкой распоряжаться в его доме?
Пасторша приготовила для девушки единственную, в которой можно было жить, комнатку в верхнем этаже старинного, очень обветшалого пасторского дома. Немного мебели и фортепиано перенесены были сюда из Лесного дома. Этот скромный духовный пастырь убогой тюрингенской деревушки, будучи еще кандидатом, полюбил такую же бедную девушку, как и он сам, и взял первое представившееся горячо желанное пасторское место, чтобы жениться.
Драгоценная мебель так же мало была на своем месте и здесь, как и в мрачной башне. Стены маленькой незатейливой комнатки были просто-напросто выбелены известью. Вдоль их, переплетаясь между собой, вились нежные, длинные нити барвинка. Каждый луч зимнего солнца, падавший в одно из угловых окон, золотистыми полосами ложился на зеленые ветви живого украшения стен и на рассохшиеся половицы ветхого пола.
Живописный лесной ландшафт, расстилавшийся перед окнами, скрыт был льдом и снегом; роскошная зеленая листва летом ограничивала его, а теперь взор терялся далеко в пространстве. Таким образом, зимой из этого окна можно было видеть и замок Аренсберг.
Лишь только наступали сумерки, это необитаемое уже столько лет барское жилище освещалось, и с приближением ночи окна его блистали все более и более. В длинных коридорах горели массивные, с матовыми шарами, лампы, привешенные к потолку, своим белым светом освещавшие все залы и закоулки, – при жизни самого принца Генриха не видывали такого освещения. Благоухание разливалось по всему старому замку сверху донизу, на лестницах и на площадках разостланы были мягкие теплые ковры. Вся оранжерея, высокие померанцевые, миртовые и олеандровые деревья, некогда гордость принца Генриха и предмет его нежных попечений, перенесены были из теплицы в замок и, как лакеи, стояли теперь на ступенях лестниц и в передних, пробуждая собой воспоминание о летней зелени и теплоте, – и все это ради крошечной, слабенькой, избалованной девочки!
Барон Флери берег маленькую Гизелу как зеницу ока; можно было подумать, что все его чувства и мысли направлены были на это нежное созданьице и на попечение о нем.
Свет придавал всем этим нежным заботам тем большую цену, что Гизела была не его собственное дитя.
Как нам уже известно, графиня Фельдерн имела единственную дочь, которая в первом браке была замужем за графом Штурмом. Носились слухи, что этот брак, заключенный по взаимному пламенному влечению, совершен был против воли графини Фельдерн. Но известно, что молодая графиня впоследствии была несчастна, и когда после десятилетнего замужества супруг ее, упав с лошади, умер, вдова не особенно была огорчена этой потерей. У нее было трое детей, но в живых осталась только Гизела.

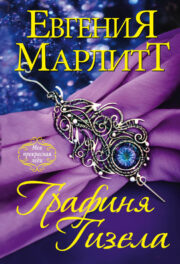
"Графиня Гизела" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Гизела". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Гизела" друзьям в соцсетях.