В одно штормовое январское воскресенье 1918 года, когда ни один здравомыслящий человек не решился бы приблизиться к океану на расстояние видимости, они втроём в пургу нашли у склона в кустах прибитый морем сломанный парусный ялик. Посередине была пробоина, борт по всей длине слегка обгорел. Они перетащили лодку за кусты и в следующие недели, поскольку законный владелец не объявился, с большим увлечением собственноручно её чинили, драили и красили в разные цвета, пока она не стала выглядеть как новая и была больше не опознаваема.
С тех пор всякий свободный час они уплывали в пролив Ла-Манш, чтобы порыбачить, подремать, покурить сушеный фукус из трубок, которые они вырезали из кукурузных початков; когда на поверхности воды появлялось что-нибудь интересное: планка, штормовой маячок от затонувшего корабля или спасательный круг, они забирали это с собой. Иногда военные корабли проходили так близко, что их маленький чёлн качало из стороны в сторону как телёнка на выгоне в первый день весны. Часто они проводили в море целый день, огибали мыс и правили на запад, пока на горизонте не появлялись британские проливные острова, и поворачивали обратно к берегу уже в свете вечерних сумерек. По выходным они ночевали в рыбацкой избушке, владелец которой в день своего призыва не успел как следует забаррикадировать заднее окошко.
Отец Леона Лё Галя – то есть мой прадед – ничего не знал о парусном ялике своего сына, но с тревогой относился к его бродяжничеству по пляжу. Он был учителем латыни, стареющим раньше времени и курившим сигареты одну за другой, который стал изучать латынь только для того, чтобы как можно больше досадить своему отцу; за это удовольствие он десятилетиями расплачивался школьной службой, которая сделала его мелочным, чёрствым и озлобленным. Чтобы оправдать перед самим собой свою латынь и продолжать чувствовать себя живым, он освоил энциклопедические знания о следах римской цивилизации в Бретани и гонял этого конька со страстью, которая никак не соответствовала ничтожности темы. В гимназии его бесконечные, удручающе монотонные, сопровождаемые непрерывным курением доклады о глиняных черепках, термальных банях и военных дорогах обросли легендами и внушали страх. Ученики спасались тем, что не спускали глаз с его сигарет и подстерегали момент, когда он начнёт писать ими на доске и курить мел.
То, что в день всеобщей мобилизации из-за астмы его освободили от военной службы, он воспринял с одной стороны как удачу, а с другой – как позор, так как в учительской он остался единственным мужчиной среди молодых женщин. Страшен был его гнев, когда он узнал от коллег, что его единственный сын уже много недель почти не появляется в школе, и нескончаемы были его нотации за кухонным столом, которыми он пытался убедить юношу в ценности классического образования. Над ценностью классического образования тот только посмеивался и, в свою очередь, пытался доказать старику, что как раз сейчас его присутствие на пляже жизненно необходимо, так как в последние недели немцы начали маскировать свои подводные лодки под рыбацкие с помощью деревянных конструкций и цветной эмали, импровизированных парусов и поддельных сетей.
Отец в ответ поинтересовался, в чём причинно-следственная связь между немецкими подводными лодками и пропусками занятий в гимназии.
Замаскированные подводные лодки, терпеливо объяснил сын, могут подкрасться к французским рыболовным ботам и безжалостно их потопить, чтобы ухудшить продовольственное снабжение французского народа.
– И? – спросил отец, кашляя и стараясь успокоиться. Любое волнение могло вызвать приступ астмы.
– Каждый день к берегу прибивает обломки: древесину, латунь, сталь, парусину, керосин в бочках…
– И? – спросил отец.
– Это ценное сырьё надо подбирать, чтобы его опять не смыло в море, – говорил Леон.
В то время как их спор неудержимо приближался к драматической развязке, отец и сын сидели за кухонным столом в той якобы лениво-расслабленной позе, которая так характерна для всех Лё Галей; они далеко вытягивали ноги под стол, откинувшись на спинку стула так, что ягодицами едва касались края сиденья. Так как оба были рослые и тяжёлые мужчины, у них было тонкое восприятие гравитации, и они знали, что именно в горизонтальном положении тело ближе всего к левитации, так как каждый его член несёт только собственный вес и освобождён от остальной массы тела, в то время как в положении сидя или стоя все части тела громоздятся друг на друга и в сумме дают тяжесть в центнер. Однако сейчас они были взвинчены, и их голоса, почти неотличимые друг от друга с тех пор, как у сына закончилась ломка голоса, дрожали от еле сдерживаемого гнева.
– Завтра утром ты снова пойдёшь в школу, – сказал отец, подавляя кашель, который из глубины груди поднимался к горлу.
– Национальная военная экономика остро нуждается в сырье, – возражал сын.
– Завтра утром ты снова пойдёшь в школу, – повторил отец.
Сын отвечал, что отцу всё-таки следует подумать о национальной военной экономике, с беспокойством отмечая, каким тяжёлым становится отцовское дыхание.
– Национальная военная экономика пусть поцелует меня в задницу, – задыхался отец. После чего разразился приступ кашля, который на минуту прервал разговор.
– И это даёт заработать неплохие карманные деньги, – сказал сын.
– Во-первых, это преступные деньги, – сипел отец. – А во-вторых, правила гимназии о пропуске занятий касаются всех, в том числе тебя и твоих друзей. Мне не нравится, что вы взяли себе такую свободу.
Сын спросил, что отец имеет против свободы и задумывался ли он, что каждый закон, для того, чтобы его соблюдали, должен иметь здравый смысл.
– Значит, вы берёте себе свободу только потому, что это свобода, – простонал отец.
– Ну и что?
– Но суть правила именно в том, что оно относится к каждому без исключения, и в особенности к тем, кто считает себя умнее других.
– Но мы не можем отрицать факт, что есть люди, которые умнее других, – осторожно заметил сын.
– Во-первых, это не относится к делу, – сказал отец, – а во-вторых, насколько мне известно, на занятиях тебя не заподозришь в выдающихся умственных способностях. Завтра утром ты снова пойдёшь в школу.
– Нет, – ответил сын.
– Завтра ты снова пойдёшь в школу! – взревел отец.
– Я вообще больше никогда не пойду в школу! – взревел сын.
– Пока ты вытягиваешь ноги под мой стол, ты будешь делать то, что я говорю!
– Ты мне не указ!
После этих прямо-таки классических пререканий спор перерос в драку, в которой двое мужчин, как школьники, катались по кухонному полу, а кровь не пролилась только благодаря быстрому и мужественному вмешательству матери.
– Всё, хватит! – отрезала она и подняла за уши мужчин, один из которых плакал, а другой задыхался. – Ты, дорогой, принимаешь своё успокоительное и ложишься спать, я сейчас приду. А ты, Леон, идёшь завтра утром к мэру и записываешься на работу. Раз уж у тебя так болит душа за военную экономику.
Как оказалось, на следующее утро, военная экономика и в самом деле могла использовать гимназиста Лё Галя – но не на пляже, как он надеялся. Более того, мэр пригрозил ему тремя месяцами тюрьмы, если он снова будет незаконно присваивать себе то, что море выносит на берег, и подробно расспросил о других его знаниях и навыках, которые могут быть использованы на благо военной экономики.
При этом оказалось, что Леон – хотя и был крепкого телосложения, – не имел ни малейшего желания использовать свою мышечную силу. Он не хотел быть ни крестьянским, ни конвейерным рабочим, и роль подручного у кузнеца или плотника его тоже не устраивала. Так же дело обстояло и с его интеллектуальными способностями: он был, конечно, не дурак, но в гимназии не проявил склонности ни к одному предмету и ни в одном не расшибался в лепёшку, потому и в отношении будущей карьеры у него не было конкретных планов или пожеланий. Конечно, ему хотелось бы ради службы родине совершить на своём парусном ялике шпионскую вылазку в Северное море и пустить на немецком побережье в обращение фальшивые рейхсмарки, чтобы дестабилизировать валюту врага; но так как это не было реалистичной перспективой трудоустройства, он лишь пожал плечами, когда мэр спросил его о планах. Интерес к военной экономике был уже совершенно потерян. Дело осложнялось тем, что шея у мэра была как у индюка, а нос в красно-синих прожилках. Леон, как и большинство молодых людей, обладал сильной эстетической чувствительностью и не мог себе представить, что человека с такой шеей и с таким носом можно воспринимать всерьёз. Мэр, ворча, прошёлся по списку вакансий, который ему прислал военный министр.
– Ну, давай посмотрим. Так, вот. Трактором управлять умеешь?
– Нет, месьё.
– А тут – требуется сварщик. Варить-паять умеешь?
– Нет, месьё.
– Понятно. Шлифовать оптические линзы ты тоже не умеешь, да?
– Нет, месьё.
– А наматывать катушки для электродвигателей? Водить трамвай? Рассверливать дула пистолетов? – Мэр усмехнулся, это начало его забавлять.
– Нет, месьё.
– Может быть, ты специалист по внутренним болезням? Эксперт в области права международной торговли? Инженер-электрик? Чертежник подземных сооружений? Шорник? Кузовщик?
– Нет, месьё.
– Я так и думал. Ни в дублении кожи, ни в двойной бухгалтерии ты тоже ничего не понимаешь, не так ли? А язык кисуахели? Ты говоришь на кисуахели? А бить чечётку? Телеграфировать азбукой Морзе? А рассчитать силу тяги стальных тросов у подвесных мостов?
– Да, месьё.
– Что? Кисуахели? Стальные тросы у подвесных мостов?
– Морзе, сэр. Я знаю азбуку Морзе.
Действительно, несколько недель назад молодёжный журнал «Юный изобретатель», который Леон выписывал, напечатал азбуку Морзе, и однажды дождливым воскресным вечером Леону вздумалось её выучить.
– Это правда, малыш? Ты меня не дуришь?
– Нет, месьё.
– Значит, нашлось что-то и для тебя! Станция Сен-Люк-на-Марне ищет помощника телеграфиста, в качестве заместителя основного служащего. Составлять накладные, объявлять о прибытии и отправлении поездов, помогать продавать билеты. Справишься?
– Так точно, месьё.
– Минимум шестнадцать лет, мужской пол, гомосексуалисты, венерические больные и коммунисты нежелательны. Ты же не… коммунист?
– Нет, месьё.
– Ну, тогда протелеграфируй мне что-нибудь. Передай-ка мне азбукой Морзе, как там, ах да: «Из бездны взываю к тебе, Господи». Давай, давай, прямо здесь, на письменном столе.
Леон затаил дыхание, взглянул на потолок и начал отстукивать средним пальцем правой руки. Короткий–короткий–длинный, короткий–длинный–короткий, короткий–короткий–короткий…
– Ладно, хватит, – прервал мэр, который всё равно не знал азбуки Морзе и не смог бы оценить виртуозность Леона.
– Я могу телеграфировать, месьё. Где находится этот Сен-Люк-на-Марне?
– На Марне, дурья твоя голова, где-то между луком и фасолью. Не бойся, это не на линии фронта. Должность срочная, можешь немедленно приступать. Ты даже будешь получать зарплату: сто двадцать франков. Да, можем попробовать.
Вот так и получилось, что в весенний день 1918 года Леон Лё Галль привязал картонный чемодан к своему велосипеду, сердечно поцеловал мать, немного помешкав, обнял отца, сел на велосипед и надавил на педаль. Он ускорялся так, как будто в конце улицы Де Фоссе должен был оторваться от земли, как Луи Блерио, который недавно пересёк Ла-Манш на самодельном самолете из ясеневых досок и велосипедных колес. Он мчался мимо небогатых, но претендующих на благопристойность мелкобуржуазных домов, в которых его друзья Патриc и Жоэль в это время макали в кофе с молоком вчерашний военный хлеб с опилками, мимо пекарни, кормившей его хлебом всю прежнюю жизнь, мимо школы, где его отец прослужит ещё четырнадцать лет, три месяца и две недели. Он проехал мимо портовой гавани, где американский зерновой танкер мирно стоял рядом с британскими и французскими военными кораблями, пересёк мост и свернул направо на проспект Дё Пари, счастливый и без единой мысли о том, что, возможно, никогда больше ничего этого не увидит, он миновал склады, подъёмные краны и сухие доки и вырвался из города в бесконечные луга и пастбища Нормандии. Не проехав и десяти минут, ему пришлось остановиться, так как стадо коров перекрыло дорогу; дальше он ехал уже медленнее.
Предыдущей ночью прошёл дождь, и дорога была приятно влажной и не пылила. На парящих лугах цвели яблони и паслись коровы. Леон ехал навстречу солнцу. Западный ветер легонько дул ему в спину, подгоняя вперёд. Через час он снял куртку и привязал её к чемодану. Он обогнал лошака, впряжённого в телегу. Потом он встретил крестьянку с тачкой и проехал мимо грузовика, который стоял на обочине с дымящимся мотором. Коней он не видел; Леон читал в журнале «Юный изобретатель», что почти все лошади Франции были отправлены на фронт.

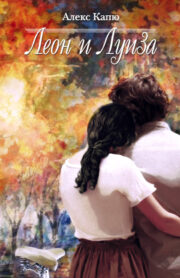
"Леон и Луиза" отзывы
Отзывы читателей о книге "Леон и Луиза". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Леон и Луиза" друзьям в соцсетях.